|
ОГЛАВЛЕНИЕ
От автора
Введение. Зачем изучать средний класс
Функция понятия
Средний класс в российской политике и социологии
Российская модернизация: проблема субъекта
О пользе «методологического индивидуализма»
Глава I. Идентичность российского среднего класса
Социальная идентичность в постсоветском обществе
Пятьдесят пять самоидентификаций
Комментарий и анализ: критерии идентификации
Индивидуальный оптимизм как социально-стратификационный индикатор
Гетерогенная идентичность: средний класс как объект и как субъект социальной трансформации
Глава II. Между «старым» и «новым» средним классом
Что произошло с советским «средним классом»?
Врачи и преподаватели
Научная интеллигенция
На двух стульях
Глава III. «Рыночный» класс
Соблазны и злоключения малого бизнеса
Менеджеры и специалисты-«рыночники»
Глава IV. Сознание и социальное действие
Образ общества, экономические и политические взгляды людей среднего класса
Средний класс как социальный актор: действительность и потенции
К проблеме социальной элиты среднего класса
Заключение
Литература
От автора
В последние годы опубликовано множество научных и публицистических работ, посвященных проблеме становления и путям развития российского среднего класса. Эта проблема справедливо считается одной из центральных для всего постсоветского развития страны: удельный вес среднего класса в социальной структуре, его роль в экономических, социальных и политических процессах во многом определяют результаты тех глубоких социальных перемен, которые переживает российское общество. Автор данной книги попытался взглянуть на процесс формирования среднего класса через призму судеб, мыслей, действий конкретных людей ~ россиян, которые или могут быть по объективным критериям отнесены к этому классу, или сами относят себя к средним слоям общества. Автор надеется, что этот «индивидуальный» подход может пролить дополнительный свет на сдвиги, происходящие в российском обществе.
Автор считает своим долгом выразить искреннюю благодарность организациям и лицам, c помощью которых книга увидела свет.
Благодаря гранту, предоставленному Фондом Джона и Кэтрин Маккартур (№ гранта 99-57304), проведены эмпирические исследования (серия углубленных интервью), которые легли в основу работы, при поддержке фонда организованы и необходимые научные командировки.
Публикацией книги автор обязан Фонду «Общественное мнение» и лично его руководителям А.А. Ослону и Е.С. Петренко. Фонд взял на себя все расходы и организационную работу по изданию.
Не могу не отметить также прекрасную работу сотрудников Фонда, обеспечивших подготовку эмпирической базы исследования.
Профессор Г.Г. Дилигенский
Ноябрь 2001 г.
Введение
ЗАЧЕМ ИЗУЧАТЬ СРЕДНИЙ КЛАСС?
ФУНКЦИЯ ПОНЯТИЯ
В современной российской общественной мысли, социологии, публицистике средний класс ~ одно из самых популярных понятий. С каждым годом множится число посвященных его изучению исследовательских монографий, эссе, статей, не ослабевают споры о границах, численности, о самом факте его существования. Высказываются полярно противоположные точки зрения: одни авторы утверждают, что в России среднего класса нет вообще или что в лучшем случае имеются лишь его эмбрионы, другие ~ что он представляет собой вполне сложившееся социальное образование.
Чтобы разобраться в сущности этих споров, сопоставить достоинства и слабости различных концепций и подходов, нужно, на мой взгляд, прежде всего определить, к какой категории понятий относится само словосочетание «средний класс». Ясно, что оно служит для обозначения большой, массовой социальной группы, однако такого рода групповые обозначения различаются по источникам своего происхождения и характеру своего отношения к реальности. Одни из них естественно рождаются из повседневного социального опыта, обозначают эмпирически легко различимые феномены и употребляются в общепринятом смысле. Другие понятия появляются в результате концептуально-теоретического, идеологического ~ или мифологического ~ осмысления действительности и представляют собой своего рода орудия познания или аналитические категории. Они служат не только для обозначения, но и для интерпретации явлений действительности, они специально придуманы (или выделены из наличного словаря), поэтому не столь однозначны, как понятия первого типа, разные люди могут вкладывать в них разное значение либо вообще не видеть в них никакого смысла. Причем это свойство полисемантичности присуще таким понятиям независимо от того, обозначают ли они что-то действительно существующее или являются чистым артефактом.
Так, понятие «рабочие» вызывает в сознании совершенно однозначный образ людей, занятых определенными видами труда, а первоначально совпадавшее с ним понятие «пролетариат» носит гораздо более абстрактный и теоретический характер, связано с определенной системой идеологических представлений и по-разному осмысляется в зависимости от отношения к этим представлениям и их толкования. То же применимо и к понятию «рабочий класс», поскольку с определенного времени он стал под влиянием марксизма отождествляться с пролетариатом. В 60~70-е годы XX века в марксистской литературе шли ожесточенные споры о том, следует ли относить к рабочему классу капиталистических стран служащих и интеллигенцию.
Ко второму ~ аналитическому ~ типу категорий, несомненно, принадлежит понятие «средний класс». Оно стало употребляться в единственном или множественном числе («средние классы») в Западной Европе с того времени, когда возникла когнитивная потребность в осмыслении группового членения общества, в котором становление капиталистических отношений разрушало традиционную сословную структуру. Радикальная критика капитализма отвечала на эту потребность разработкой биполярного образа общественной структуры, ее базовым принципом провозглашался антагонизм богатых и бедных, собственников и неимущих, властителей и подданных. Наиболее последовательное развитие этот подход получил в марксизме. Либеральная и либерально-демократическая мысль видела центральный принцип обществ модерна не в антагонизме, а в свободной и честной конкуренции, результаты которой определяют положение каждого индивида в обществе. Поскольку в капиталистическом обществе общим мерилом всех объектов человеческих притязаний являются деньги, мера успеха в конкуренции определяется не качественными и функциональными показателями, как при сословном строе (например, «дворянин», «крестьянин», «купец» и т.д.), но количественными ~ по шкале «больше~меньше». Причем это количественное понимание социальных реалий отнюдь не сводится только к определению статусов по размерам богатства. Оно носит гораздо более глубокий характер, становится ведущим принципом познания общества. По определению классика немецкой социологии Г. Зиммеля, «познавательный идеал ~ это понимание мира как огромной математической задачи, понимание событий и качественных отличий вещей как системы чисел» [цит. по 38, с. 445] (очевидно, не только вещей, но и людей. ~ Г.Д.). Соответственно этому идеалу образ социальной структуры выстраивается в виде строго вертикального континуума, в котором отсутствуют какие-либо разрывы и каждая точка в принципе имеет числовое значение. Для удобства обращения с этой вертикалью она может быть разбита, как это делается в современной англо-саксонской социологии, на разделы (высший, средний, низший классы) и подразделы (высший средний, средний средний, низший средний и т.д.) или на десяти- (двенадцати-, двадцати- и т.д.) ступенчатую шкалу, используемую в социологических опросах для выяснения социальной самоидентификации респондентов.
Понятие «средний класс» порождено, однако, не только чисто познавательными потребностями и общим математизированным стилем мышления эпохи модерна, но и определенным идеологическим «заказом». Его смысл не сводится к банальной констатации, что в обществе, где существует социальное неравенство, кроме «высших» и «низших» должно быть и некое срединное пространство, охватывающее ту или иную его часть. Категория среднего класса ~ это еще и символизация некоей идеологической альтернативы биполярному, антагонистическому образу общества, раздираемого противоречиями между богатыми и бедными, сильными и слабыми, победителями и проигравшими в межиндивидной конкуренции. Это также ~ этическая альтернатива бесчеловечности и бездуховности царства денег и расчета, гонке за барышом, подчиняющей себе человеческую жизнь и отношения между людьми. В социально-критической демократической культуре XIX века, например в творчестве Ч. Диккенса, простой, средний человек ~ клерк, фермер, лавочник, ремесленник ~ противопоставляется как высшему слою аристократов и крупных дельцов с его господством бездушных, функциональных отношений, разрушающих естественные семейные связи, дружбу, любовь, участие, так и низшему, где нищета порождает отчаяние, ненависть, грубость чувств, преступность. Этот средний человек не беден и не богат, он никого не угнетает и не испытывает угнетения. Он не стремится к богатству и власти. Скромный достаток позволяет ему сохранять личное достоинство, его жизнь комфортна и в материальном, и в моральном отношении, наполнена радостями, которые приносят семья и любовь. Средний класс становится таким образом агентом гармонизации общества и личности, его жизненная практика преодолевает тенденции к расколу, взаимному отчуждению, социальной борьбе, которые порождает капитализм, как и тенденцию к обесчеловечиванию личности, превращению ее в функциональную единицу капиталистического накопления.
Если в эпоху классического капитализма подобные представления о среднем классе ~ это в основном феномен культуры и социально-этический идеал, то капитализм ХХ века воплощает его в социально-политическую практику, в один из важнейших стратегических ориентиров общественной динамики. Научно-техническая революция, экономический рост и серии социальных реформ ведут к внушительному росту жизненного уровня и социальных прав массовых слоев населения, к ослаблению традиционных классовых конфликтов, создают основы для идеологии и практики «государства всеобщего благоденствия». В этом новом гуманизированном капитализме средний класс становится центральной социальной фигурой, ведущие политические партии провозглашают себя защитницами его интересов, социальная структура развитых капиталистических стран приобретает очертания, позволяющие видеть в них «среднеклассовые» общества. Среднему классу приписывают роль решающей силы в стабилизации, интеграции и развитии общества, опоры и гаранта демократических и либеральных ценностей.
История ряда стран Западной Европы в ХХ веке показывает, что подобные представления, как и любая идеологема, не свободны от преувеличений и упрощений. Во-первых, сознание и поведение средних слоев обусловлено не их «срединным» положением как таковым, а влияющими на их экономический и социальный статус процессами и ситуациями в экономике и в обществе. Если это влияние негативно, стабилизирующая функция средних слоев и их приверженность демократическим ценностям подвергаются серьезным испытаниям. В межвоенный период мелкая буржуазия составляла основную социальную базу для фашистских режимов в Италии и Германии [89]. После второй мировой войны общий характер социально-экономического развития в целом содействовал укреплению и улучшению положения средних слоев, процессу социальной интеграции западных обществ, взаимосвязанному с расширением почвы, питавшей ментальность среднего класса. Однако и в этих условиях на положении отдельных групп средних слоев, особенно традиционных, мелкобуржуазных, сказывались издержки технико-экономических сдвигов и западноевропейской интеграции, а также усиление миграции из стран «третьего мира». Это приводило к тому, что данные группы оказывали поддержку неонацистским и правоэкстремистским политическим течениям. Как справедливо отмечает американский исследователь Х. Балзер, «даже в индустриальных обществах члены средних слоев не являются автоматически ни состоятельными, ни приверженцами демократии» [73, p. 170]. В последние десятилетия ХХ века социальные сдвиги, связанные с глобализацией и информатизацией, создают, как констатируется в специальных исследованиях [86], новые угрозы для положения ряда средних слоев и их роли гаранта стабильности и существующего порядка.
Во-вторых, гетерогенность среднего класса делает проблематичным приписывание ему неких единых стандартов ментальности и поведения. Учитывая это, тот же Балзер считает более адекватным употребление `этого понятия во множественном числе (средние классы) [73]. При попытках исследовать типы группового сознания и психологию капиталистических обществ рассмотрение среднего класса как некоей единой общности оказывается практически невозможным, наиболее адекватный метод ~ выделение отдельных его слоев (служащих, интеллигенции, менеджеров, мелких предпринимателей (., например, [51].)).
При всех этих существенных оговорках средний класс (или классы) все же действительно является в современных демократиях решающей силой, гарантирующей стабильность существующих социальных и политических институтов. Ибо эти институты, несмотря на воздействие тех или иных деструктивных факторов в общем и целом защищают его интересы от угроз, которые могут представлять для них более сильные экономические группы или стихийные социально-экономические процессы. В каком-то смысле гетерогенность среднего класса является фактором его приверженности представительной демократии: большинство, на которое опирается такая демократия, может в условиях современного общества формироваться только из многих меньшинств и при условии учета интереса каждого из них, а именно из таких меньшинств и состоит средний класс.
СРЕДНИЙ КЛАСС В РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКЕ И СОЦИОЛОГИИ
В контексте нашей темы описанный выше идеологизированный образ западного среднего класса важен потому, что он стал одной из главных несущих основ идеологии российских либеральных реформ. Формирование среднего класса Е. Гайдар отнес к числу «уникальных проблем» российской модернизации, «которых, пожалуй, не было у других стран», придавая ей столь же большое значение, сколь и утверждению легитимности частной собственности [12, c. 201]. Это убеждение разделяют в сущности все российские идейно-политические течения ~ не только либералы, но и многие их оппоненты, так или иначе признающие необходимость перехода к рыночной экономике. Причем если для теоретика и стратега либеральных реформ развитие среднего класса ~ прагматически необходимый компонент «западного» пути посткоммунистической эволюции России, то для либерального публичного дискурса этот класс стал идеологемой и одним из символов новой веры. В либеральных СМИ, в либерально ориентированном меньшинстве российского общества западный образ среднего класса был воспринят в своем наиболее идеализированном и упрощенном варианте.
«Человек середины» ~ тот стержень, на котором держится все», «средний... означает опорный класс... Класс, который не может податься ни «влево», ни «вправо»... Человек среднего класса определил свои потребности и не по минимуму, и не по максимуму, а по критерию необходимого и достаточного. Он не хочет быть Ротшильдом, Хантом, но и оставаться всю жизнь рабочим на буровой, наверное, тоже не хочет, как и подчиняться, ходить строем... Я ищу природу среднего класса в степени свободы» [4, c. 88, 89, 94]. Эти высказывания, взятые из одной социологической публикации, принадлежат россиянам, относящим себя к среднему классу. В них отчетливо звучит представление об этом классе как о социальном идеале, воплощающем ценности гармоничности и умеренности, свободы и личного достоинства, как о гаранте («опоре») здоровья общественного организма.
Общественно-психологическая атмосфера, сложившаяся вокруг идеологемы среднего класса, стимулировала исследовательскую работу по изучению сдвигов в социальной структуре постсоветского общества. Часть публикаций по этой проблематике несет на себе печать политических позиций авторов, их отношения к либеральным реформам: сторонники реформ стремились выявить процесс формирования в России нового среднего класса, видя в нем одно из важнейших последствий перехода к рынку; противники и критики отрицали реальность этого процесса, акцентируя процессы обнищания и социальной деградации массовых слоев населения, в том числе тех, которые ранее принадлежали к советскому «среднему классу». Позиции критиков на какое-то время значительно усилил августовский финансовый кризис 1998 года, нанесший удар по относительно состоятельным слоям населения.
Лучшие, наиболее серьезные и фундаментальные исследования были свободны от подобной идеологической заданности. Их авторы стремились прежде всего разобраться в той новой социальной реальности, которая складывалась в стране на развалинах социализма. Решающее значение для изучения социальной структуры общества имело радикальное обогащение теоретической базы. В советское время большинство исследователей данной проблематики добровольно или вынужденно руководствовались марксистским классовым подходом. Применительно к отечественным реалиям это означало необходимость втискивать (как минимум ~ хотя бы формально) анализ в прокрустово ложе знаменитой официально утвержденной «трехчленки» ~ советское общество было обязано состоять из двух основных классов: рабочего класса, колхозного крестьянства и «прослойки» ~ интеллигенции. Лишь немногие ученые находили в себе смелость, рискуя нажить неприятности, проводить исследование с иных методологических позиций. Снятие идеологических табу сделало возможным изучение социальной структуры общества на базе теоретико-методологического багажа мировой науки. Высокий престиж в отечественных научных кругах приобретают западные концепции социальной стратификации, прежде всего плюралистический (многомерный) подход М. Вебер (Для ознакомления научного сообщества и студенчества с этими концепциями большое значение имела книга В.В.\~Радаева и О.И.\~Шкаратана «Социальная стратификация» [50].)а. В конкретных исследованиях советской и постсоветской социальных структур социологи опираются на знаменитую веберовскую стратификационную триаду (собственность, престиж, власть), стремясь понять, как соотносятся различные ее элементы в обеих этих структурах (работы Т.И. Заславской, Р.В. Рывкиной, В.В. Радаева и О.Н. Шкаратана, Е.Н. Старикова, В.И. Ильина, Е.Д. Игитханян, С.С. Балабанова, Н.Е. Тихоновой и других исследователей). Наряду с этим предпринимаются серьезные попытки привлечь к анализу социальной структуры общества культурные и социально-психологические критерии (работы Л.Г. Ионина, Н.И. Лапина, А.М. Демидова, С.С. Балабанова).
Не претендуя на обзор и анализ литературы по проблемам социальной структуры Росси (а работа проделана в книге Н.Е.\~Тихоновой «Факторы социальной стратификации в условиях перехода к рыночной экономике» [56].)и, выделим лишь те положения и подходы, которые важны для определения нашей собственной методологической позиции и, следовательно, для задач данной работы.
Как представляется, одна из наиболее полных и аргументированных концепций социальной структуры российского общества разработана Т.И. Заславской. В предложенной автором модели иерархической социальной стратификации понятие «средний класс» не фигурирует, исследовательница использует более адекватное стратификационному подходу понятие слоя (страты). Заславская выделяет две страты, которые могут быть отождествлены со средним классом: верхний средний и средний слой. Оба эти слоя представляют меньшинство общества: по подсчетам автора, верхний средний слой составлял 1% дееспособного населения России в 1993 году и 1,4% в 1995м, средний слой возрос в тот же период с 22,9% до 28,3%. Выделение этих и остальных слоев проведено прежде всего по критериям «экономического потенциала»: отношения к собственности и уровня доходов, а также типов занятости (в частном и акционированном или государственном секторе). Учитываются также «управленческий потенциал», т. е. прежде всего должностной статус и «социокультурный потенциал»: образование, квалификация, образ и качество жизни, косвенными эмпирическими показателями которых в исследовании Заславской выступает социальное настроение людей; принимается во внимание степень урбанизированности окружающей их социальной среды. К верхнему среднему слою исследовательница относит средних и крупных предпринимателей, к среднему ~ мелких предпринимателей, полупредпринимателей, менеджеров производственной сферы и управленцев непроизводственной (госаппарата), высшую интеллигенцию, рабочую элиту, кадровых военных. Ниже среднего слоя расположен «базовый слой» ~ массовая интеллигенция, полуинтеллигенция, работники торговли и сервиса, индустриальные рабочие, крестьяне ~ и нижний слой (неквалифицированные работники). Еще ниже ~ полукриминальное социальное дно. Выше верхнего среднего слоя ~ политическая и экономическая элита. Заславская не исследует специально две последние группы, поскольку о них отсутствуют социологические данные [23]. Позднее ~ в публикации 1998 года ~ Заславская дает несколько иные определения и цифры. Вместо верхнего среднего слоя здесь фигурирует просто верхний слой, насчитывающий 5~6% самодеятельного населения; удельный вес среднего слоя теперь определяется в 14~18% [25, c, 9].
Нетрудно заметить, что приведенные выводы Заславской основаны на сопоставлении количественных значений, отражающих различные аспекты объективного положения изучаемых слоев: наличие, размеры или отсутствие собственности, величина дохода, должностной статус, уровень квалификации, образование и т.д. На основании этих сопоставлений в полном соответствии с принципом вертикальной стратификации конструируется групповое членение общества, отражающее картину его дифференциации по выделяемым исследователем признакам. Интерес к такого рода иерархической дифференциации характерен для многих отечественных исследований социальной структуры: средний класс или средние слои в них ~ это группы, находящиеся на средних ступенях социальной лестницы. Внимание к удельному весу этих групп обусловлено тем, что он отражает глубину социальной дифференциации изучаемого общества и позволяет сравнивать его по этому критерию с другими обществами.
Некоторые исходные принципы данного подхода выделяет американский исследователь российского среднего класса Х. Балзер. Он подчеркивает, что «средние классы» всегда являются таковыми применительно к конкретным условиям данной страны. Российский средний класс не обладает ни тем материальным достатком, ни той стабильностью положения, какие имел, например, американский средний класс в 1960~1980-х годах, но это не противоречит факту его существования и относительно быстрого роста в середине 1990-х годов. Ибо он выделяется не по каким-либо своим собственным особенностям, но по негативным критериям ~ к нему относят тех, кто ни богат, ни беден по материальным стандартам данной страны [73, p. 170].
Понятно, что такое направление исследований не затрагивает проблемы социальной и политической роли среднего класса, его качеств социального актора или субъекта, т. е. именно тех его характеристик, которые представляют наибольший интерес с точки зрения перспектив реформирования российского общества. Очевидно, именно поэтому Заславская дополняет чисто стратификационный подход анализом качеств среднего слоя как определенной социальной общности ~ уровня его сплоченности, его сознания, поведения. В связи с этим она отмечает гетерогенность среднего слоя, неустойчивость и мозаичность относящихся к нему групп, неконсистентность и нестабильность их статуса. Совокупность подобных групп, заключает исследовательница, в лучшем случае образует зародыш полноценного «среднего слоя». Такая «полноценность» означала бы, по ее мнению, сознание общности своих интересов и способность бороться за них [22, c. 175]. В другой работе Т.И. Заславская и Р.Г. Громова констатируют, что «в своем нынешнем состоянии средний слой России вряд ли может выступать в роли социального стабилизатора общества и носителя общественного прогресса. Для этого ему недостает экономической независимости, высокого благосостояния и стимулирующих институциональных условий деловой и творческой деятельности» [25, c. 11, 12].
К сходному выводу приходит, затрагивая проблему социально-политической роли среднего класса, Х. Балзер. «Политическое развитие (России. ~ Г.Д.), ~ пишет он, ~ в большой мере зависит теперь от того, в какой мере средние классы используют существующие возможности, чтобы построить экономические и политические институты, которые помогут им пережить следующий кризис... Члены средних классов могут развить гражданские организации и механизмы коллективного действия, способные служить противовесом олигархии и опорой демократии». Однако такую перспективу Балзер не считает единственно возможной. «По меньшей мере столь же вероятно, ~ продолжает он, ~ что их соблазнит искаженный образ латиноамериканских и азиатских моделей. Перед восточноазиатским кризисом конца 1997 г. я ожидал, что русские политики провозгласят «евразийские ценности», ставящие стабильность и экономическое развитие выше демократии. Такая возможность остается весьма вероятной. Трагедия состоит в том, что в российских условиях те, кто тоскует по Пиночету, скорее всего оказываются ближе к Сухарто и Маркосу» [73, p. 183].
Последняя фраза звучит весьма актуально в условиях, когда после завершения «эпохи Ельцина» выбор между авторитарным «государственничеством», навязываемым правящей бюрократией, и демократическим путем развития России стал острой проблемой политической жизни. Американский исследователь прав, полагая, что, учитывая особенности сложившегося в России синтеза власти и собственности, расстановки политических сил, выбор авторитарного сценария исключает либерализацию экономики и означает окончательное торжество бюрократического квазирынка, воспроизводящего экономический застой и кризис. Прав он и в том, что предотвращение подобного сценария зависит от активности общественных сил, отождествляемых со средним классом. Но это значит, что анализ возможностей и тенденций такой активности является одной из центральных проблем изучения среднего класса.
Преобладающий в отечественных исследованиях стратификационный подход мало релевантен данной проблеме. Не случайно в работах цитированных исследователей ~ русского и американского ~ мы встречаем один и тот же «перепад» между выводами о социально-экономической и общественно-политической реальности среднего класса (или слоя). В первом случае он выступает как достаточно четко выявляемая, большая (до четверти самодеятельного населения) и растущая социальная группа, во втором (у Заславской) как «неполноценный» и эмбриональный «квазислой», как потенциальная пассивная база (у Балзера) усиления авторитаризма и закостенения существующих квазирыночных застойных экономических структур. Причем если первая реальность ~ «стратификационная», социально-экономическая ~ воспроизводится социологами на основании тщательного анализа репрезентативных эмпирических данных, то вторая описывается скорее как эманация некоего общего более или менее интуитивного впечатления об общественно-политической жизни современной России. Адекватность этого впечатления весьма высока, однако вторая реальность среднего класса, заложенные в ней потенции и тенденции заслуживают, по меньшей мере, столь же конкретного и детального изучения, сколь и первая. Именно эта вторая ~ ментальная, психологическая и практически-поведенческая ~ реальность является основной темой данной работы.
Возвращаясь к работам Т.И. Заславской, важно отметить, что в них в общей форме выявлена одна из наиболее существенных особенностей в первую очередь практики, поведения среднего слоя российского общества. «Этот рыхлый несформировавшийся квазислой..., ~ пишет исследовательница, ~ обладает ценнейшим качеством ~ высоким инновационно-деятельностным потенциалом. Он принимает активное участие в реформах и успешно адаптируется к их результатам». По мнению исследовательницы, «средний слой имеет культурный и деятельностный потенциал», позволяющий ему развиваться в средний класс (в западном смысле слова) [22, с. 175; 25, с. 19]. Эти выводы представляются весьма важными, и они, как убедится читатель, служат одним из основных «отправных пунктов» концепции данной работы.
Определенным шагом вперед к пониманию деятельностных аспектов развития среднего класса, к изучению его реальной практики явились работы Е.М. Авраамовой. В них подчеркивается, что «критериальный подход», распространенный при изучении существования и состава среднего класса, в российских условиях недостаточен. Ибо такие критерии, как уровень дохода и образования или должностной статус, «плохо действуют в условиях переходного общества, когда образование впрямую не определяет должностной статус, а статус автоматически не «конвертируется» в доход» [2]. Авраамова напоминает о таких «классических» (т. е., очевидно, присущих западному обществу) характеристиках среднего класса, как его функция экономического донора, платящего основную массу налогов, как его ведущая роль в процессе вертикальной мобильности (которая осуществляется в основном как внутри этого класса, так и путем «взаимообменов» между ним и другими частями социальной структуры). Однако решающим фактором формирования среднего класса и показателем принадлежности к нему в условиях переходного общества исследовательница считает уровень адаптации людей к новым условиям, который характеризуют «продуктивные модели социально-экономического поведения, адекватные сложившейся хозяйственной ситуации» [2].
Исходя из этого критерия и опираясь на многочисленные данные социологических опросов, Авраамова выделяет «потенциальное ядро среднего класса», которое, по ее оценке, составляет 20% населения. Его характеризуют «адаптационные навыки, достаточно успешные стратегии социально-экономического поведения». Они образуют «важные предпосылки становления среднего класса, однако у данной группы «отсутствуют стереотипы массового социокультурного поведения и устойчивая самоидентификация», «значимые горизонтальные связи, ...отчетливое понимание экономических интересов», «поддержка авторитетных общественных организаций», что делает представителей данного слоя уязвимыми перед угрозой потери позиции, достигнутой в ходе адаптации». Все это, заключает Авраамова, используя терминологию К. Маркса, не позволяет говорить о нем даже как о «классе в себе» и тем более как о «классе для себя», «так как средние слои не имеют серьезных ресурсов влияния на макропроцессы в экономике и политике» [2, с. 25]. В целом работы Авраамовой продолжают линию изучения среднего класса с позиций тех «двух реальностей», в которых выражается феноменология данной категории. Вместе с тем она существенно расширяет поле исследования второй, деятельностной реальности, артикулируя такие ее компоненты, как адаптация и адаптационные стратегии, вертикальная мобильность, социокультурное и политическое поведение, внутригрупповые связи. Характерно, что во всех рассмотренных исследованиях более или менее пессимистическая оценка второй реальности основана на ее сопоставлении с неким нормативным образом среднего класса, с представлением авторов о том, каким ему следует быть, какие он должен выполнять функции. Это представление в идейно-ценностном плане питается, очевидно, теми ожиданиями, которые связывались с развитием среднего класса в начале реформ, а в плане когнитивном ~ с идеализированным образом западного среднего класса или наследием марксистской теории классов.
В ходе полемики о среднем классе наметились и несколько иные методологические подходы. Так, в одной из дискуссий, организованной Российским независимым институтом социальных и национальных проблем (РНИСиНП, руководитель М.К. Горшков), А.Г. Здравомыслов фактически выступил против «нормативного» подхода к проблеме. «Существование среднего класса в настоящее время не вызывает каких-либо сомнений», ~ утверждал оратор. По мнению Здравомыслова, весомым аргументом в пользу этого тезиса является уже существующий многочисленный «срединный слой», а марксистское понимание класса не имеет отношения к проблеме; социальную неоднородность среднего класса, многообразие его ценностных и политических ориентаций следует признать, по мнению автора, нормальными явлениями. С точки зрения известного российского социолога, споры о большей или меньшей «полноценности» среднего класса не имеют большого смысла, акцент надо перенести на изучение происходящих в нем процессов [27, c. 34].
Многие противоречия в суждениях о среднем классе объясняются, по-видимому, отсутствием четко определенной методологической установки, ориентирующей цели исследования. Если, как отмечалось выше, это понятие представляет собой аналитическую, т. е. так или иначе сконструированную категорию, важно прежде всего решить, для анализа чего, какой именно проблемы, она используется. Ибо именно от содержания этой проблемы зависит смысл, который вкладывается в понятие среднего класса. Этот центральный методологический вопрос поставил и наметил его решение И.Е. Дискин. По его мнению, многие работы о среднем классе направляются целевой установкой: «чтобы было как у людей; на Западе есть, и у нас должно быть», а подобный подход, считает социолог, малопродуктивен. Продуктивное же направление в исследовании среднего класса он видит в поиске такого социального субъекта (слоев, групп, некоего «виртуального класса»), который был бы способен обеспечить стабилизацию общества в процессе своих конфликтов с существующими общественными институтами, критикуя и выявляя их нестыковки и дисфункции. Этот поиск Дискин предлагает вести, опираясь на систему специальных верифицируемых социологических индикаторов-характеристик, которыми «должен был бы обладать социальный субъект, который при определенных условиях, в некотором диалоге с институциональной средой ...способен выстроить некоторую стабильную ситуацию». К числу таких характеристик Дискин относит индивидуальный рациональный выбор жизненных стратегий «в соотношении с наличными и доступными социально-экономическими ресурсами», а также «мотивационную напряженность, мотивированность на достижения и готовность переходить довольно высокие барьеры в использовании ресурсов» [20, c. 36~38]. Хотя автор этого не оговаривает, речь явно идет о субъекте такой стабилизации, которая происходит на основе развития рыночных отношений и институтов.
Существенный методологический вклад в изучение рассматриваемых проблем внесла монография Н.Е. Тихоновой, посвященная факторам социальной стратификации в России. В этой работе проблематика среднего класса специально не исследуется, но исходные теоретические позиции и исследовательская стратегия автора представляют несомненный интерес для выработки адекватного подхода к данной проблематике. Во-первых, Тихонова стремится строить эту стратегию в соотношении с основными парадигмами современной социологической теории. Сопоставляя два альтернативных подхода, один из которых «рассматривает индивидов как элементы социальной системы, детерминирующей их действия через место в системе в целом, а другой воспринимает их как «рациональных акторов»...», автор исходит из гипотезы, что применительно к «условиям трансформирующегося общества подход с позиций актора является более перспективным».
Во-вторых, проверяя и подтверждая в ходе исследования эту гипотезу, Тихонова приходит к выводам, весьма плодотворным как для понимания процесса социальной структуризации российского общества в целом, так и проблемы среднего класса. «В условиях рыночных реформ, ~ заключает исследовательница, ~ произошел не столько слом старой социальной структуры, сколько дополнение ее формирующейся ускоренными темпами вполне рыночной в своей основе новой социальной структурой, включающей не только «новых русских», но и миллионы людей, работающих в негосударственном секторе экономики. «Перетоку» определенной части населения в частный сектор экономики и закреплению в нем способствовали прежде всего факторы личностного, социально-психологического характера. В числе основных среди них были тесно коррелированные с возрастными характеристиками инициативно-индивидуалистические или, напротив, пассивно-патерналистские установки, степень мобильности психики, а также ценностные ориентации, задававшие в совокупности возможности адаптации актора к новой модели развития общества». И далее автор высказывает предположение о возможном сохранении «дифференцирующей и селектирующей роли социально-психологических факторов» при условии сохранения смешанного характера российской экономики.
Выводы Тихоновой имеют самое непосредственное отношение к пониманию содержания категории «средний класс» в условиях постсоветского российского общества и процессов его формирования. В то же время, на наш взгляд, в ее концепции можно обнаружить некоторые противоречия, обусловленные не вполне последовательным осуществлением столь четко сформулированных ею методологических принципов.
Во-первых, при внимательном чтении работы Тихоновой возникает вопрос: в каком именно процессе играют ключевую роль социально-психологические факторы ~ в распределении индивидов по различным «ячейкам» социальной структуры или в формировании самой этой структуры? В одном случае автор заявляет, что ее интересует роль этих факторов «в занятии определенной статусной позиции», что предполагает имплицитное представление о существовании сложившейся и относительно устойчивой системы таких позиций. В другом же случае речь идет о «дифференцирующей роли» социально-психологических факторов, что наводит на мысль о далеко не завершившемся процессе дифференциации и структурирования общества, не о занятии, а о «сотворении» статусных позиций.
Во-вторых, несомненно, доказанная автором связь новых социально-структурных феноменов с частным сектором экономики выглядит в изложении Тихоновой чересчур жесткой. Получается, что за пределами этого сектора остаются лишь психологически иммобильные и безынициативные люди с «пассивно-патерналистскими» установками, не происходит значительных социально-структурных изменений. Наверняка, исследовательница не разделяет подобных выводов, однако ее формулировки могут создать подобное впечатление.
И наконец, в-третьих, основной концепции автора противоречит, на наш взгляд, ее вывод о маловероятности «дальнейших перспектив процесса модернизации общественной жизни России», который она аргументирует исчерпанием «основного адаптационного ресурса населения» [56, с.11, 12, 124, 125]. Последнее соображение просто малопонятно. Как можно доказать, что исчерпан ресурс тех факторов трансформации социальной структуры, которые сама Тихонова считает основными: способность людей к инициативе, личностная психологическая мобильность, достижительные мотивации? Тем более, что эти факторы она связывает с возрастными характеристиками людей, что предполагает их воспроизводство в каждом новом поколении.
В особую группу исследований о среднем классе можно отнести те из них, в которых критерием для его выделения принимается не совокупность экономических, социальных и культурных характеристик различных слоев общества, но самоидентификация людей со средними слоями. Выделенный таким образом «субъективный средний класс» (по формулировке Л.А. Хахулиной) затем исследуется по всем параметрам его материального и профессионального положения, сознания (ценностные ориентации), экономического, социального и политического поведения. На таком подходе построено исследование ВЦИОМ, результаты которого опубликованы в статье Хахулиной [63], и обширный аналитический доклад, в сущности монографическое исследование РНИСиНП [54]. «Идентификационный» подход связан с непростыми методологическими проблемами ~ прежде всего с определением субъективных оснований социальной самоидентификации в России. Эти проблемы решаются в двух исследованиях неодинаково (подробнее об этом в следующей главе), однако оба они значительно обогащают эмпирическую базу изучения российского среднего класса. Так, Хахулина исследует представление населения о социальной стратификации российского общества, социальный состав субъективного среднего класса, уровень его доходов и имущественную обеспеченность, жилищные условия, сбережения, проведение отпусков, воздействие на него августовского кризиса 1998 года, отношение к экономической реформе и электоральные ориентации. В исследовании РНИСиНП эти вопросы исследованы еще более детально и кроме них ~ экономическое поведение и экономические ценности среднего класса, особенности его мировоззрения и политические ценности, социальная мобильность его представителей.
Один из наиболее интересных результатов обоих исследований состоит в том, что вырисовывающийся в них портрет субъективного среднего класса по своим качественным и количественным параметрам в основном совпадает с тем, который конструируется на основе анализа объективных данных [63, c. 28] (сли Т.И. Заславская, как отмечалось, оценивала состав среднего слоя в 24% самодеятельного населения, то доклад РНИСиНП\~~ в 25% до осени 1998 года и в 18%\~~ после кризиса (см. [54, c. 233]).). Таким образом, реальность среднего класса и определенность его характеристик подтверждают не только заключения исследователей стратификации ~ ее отражают также представления массового сознания.
Подчеркнем, однако, что речь идет только о том, что мы назвали выше «первой реальностью» среднего класса. Иными словами, о среднем классе, определяемом в сущности тавтологически: те, кто занимает или считает, что занимает, средние позиции на вертикально ориентированном социальном пространстве. Сложнее обстоит дело со «второй реальностью», отражающей субъективные, деятельностные характеристики среднего класса, его внутреннее строение и роль в трансформационных процессах. С одной стороны, оба исследования субъективного среднего класса подтверждают то, что подчеркивалось в предыдущих отечественных работах: крайнюю гетерогенность этого слоя буквально по всем параметрам как объективным (например, уровень доходов, социально-профессиональный статус), так и субъективным: ценности, ориентации, модели экономического поведения и т.д. Иными словами, отсутствие признаков его реальности как объединяемой чем-то (кроме «среднего» положения и соответствующей самоидентификации) общности, или группы. С другой стороны, оба исследования неодинаково интерпретируют эти данные и оценивают «вторую реальность» среднего класса. Хахулина, фактически подтверждая мнение Заславской и ряда других социологов, видит в верхней и средней его части пока что «зародыш» будущего среднего класса, способный развиться в нечто зрелое лишь при определенных экономических и политических условиях [63, с. 33].
Исследователи РНИСиНП также приводят и подробно анализируют данные о многоплановой гетерогенности и фрагментированности российского среднего класса, при этом утверждая, что различия между средними слоями российского общества прослеживаются во всем ~ начиная от имущественного положения и кончая гражданской позицией и политическими ориентациями. Они, тем не менее, считают возможным определять его как «довольно устойчивую социальную совокупность», как группу, «объективно заинтересованную в максимальной стабильности российского общества». В числе особенностей среднего класса, подтверждающих эти тезисы, авторы называют высокий уровень адаптированности к рыночной экономике и «экономическую стратегию, в которой значительное место принадлежит предпринимательской деятельности и самозанятости»; свободу от патерналистских установок и склонность полагаться на собственную активность как условие жизненного успеха; ценности свободы и частной собственности; ориентацию на социальное рыночное хозяйство.
Приходится констатировать, что эти выводы не вполне подтверждаются данными исследования. Так, по ряду обозначенных позиций в лучшем случае лишь незначительное арифметическое большинство, но далеко не основная масса «среднего слоя среднего класса» (категория, в которую, по классификации исследователей, входит примерно 94% всего его состава) обладает названными особенностями. Лишь 55% являются сторонниками «общества индивидуальной свободы»; 55,3% считают, что каждый должен отвечать за свое благополучие (остальные приписывают эту роль государству); за экономическое устройство, основанное на плановом хозяйстве или государственной собственности с элементами рынка и частной собственности, выступает немногим меньше половины (42,4%); лишь 27% готовы для улучшения своего положения заняться предпринимательством или мелкой торговлей, а 37% ~ отнюдь не «рыночной» обработкой собственных огородов. Что касается заинтересованности среднего класса в стабильности, то не вполне понятно, о чем идет речь. Экономических или политических потрясений в России вообще не хочет никто, кроме маргинальных экстремистов. В то же время почти половина (48~49%) среднего класса считает, что «нынешняя власть должна быть заменена», 55,4% ~ что «общество нуждается в существенных переменах», 38,6% ~ фактически выступают за передел собственности («конфискацию неправедно нажитых состояний») [54, c. 82, 94, 128, 154, 187, 193, 229, 233, 234].
В целом создается впечатление, что попытки выяснить уровень зрелости российского среднего класса ~ остается ли он «зародышем» или сложился в устойчивую социальную группу ~ не являются особо конструктивным путем его изучения. Сторонники обеих точек зрения рисуют аналогичную картину эмпирической реальности этого класса, поэтому споры на данную тему похожи на известную дискуссию: наполовину полон или наполовину пуст стакан воды. Интерес рассматриваемых исследований субъективного среднего класса в другом. Во-первых, в них собран и подвергнут разностороннему анализу богатейший массив эмпирических социологических данных. Во-вторых, избранная в них стратегия исследования позволяет выявить, как изменения в социальной структуре российского общества отразились на массовом сознании, на социальной самоидентификации россиян. В частности, весьма важным применительно к этому представляется вывод Хахулиной, что «самоидентификация на стратификационной шкале становится все более привычной для российского населения» [63, с. 25]. В-третьих, первостепенное познавательное значение имеет выявленная в этих работах внутренняя дифференциация гипотетического среднего класса и выяснение как объективных, так и субъективных ~ психологических, поведенческих ~ особенностей различных его составляющих. Так, Хахулина приходит к выводу о неодинаковой роли в формировании среднего класса «людей с образованием, занятых наемным трудом», и представителей малого и среднего бизнеса: именно первая группа, по ее мнению, способна в российских условиях внести основной вклад в этот процесс [63, с. 33].
В исследовании РНИСиНП в некотором противоречии с цитированными выше общими выводами выделяются и анализируются по различным признакам те группы среднего класса, которые являются в отличие от остальных носителями новых «среднеклассовых» тенденций в образе жизни, социальной мобильности, выборе между либеральным и патерналистским этосом. Так, по наблюдению исследователей, одной из характеристик «нового среднего класса» являются активные формы досуга, которые коррелируются не только с высокой материальной обеспеченностью, но и с высоким образовательным и квалификационным уровнем. В качестве «основных факторов принадлежности к среднему классу как к доходной группе» выделяются «наличие собственного бизнеса и (или) административная карьера, как правило, зависящие от образовательного уровня». Здесь явно идет речь не обо всем среднем классе, выделенном авторами по критерию самоидентификации, а лишь о некоторой его части. Показательно, что лишь для «молодых, предпринимательских и высокообразованных когорт», а не для среднего класса в целом характерна либеральная позиция в вопросах социально-трудовых отношений ~ перенос ответственности за их решение с государства на предпринимателей [54, c. .99, 111, 166].
Весьма четкую и дифференцированную картину формирования российского среднего класса дает исследование Бюро экономического анализа (БЭА). Авторы этой работы считают «малопродуктивными» попытки доказать или опровергнуть существование среднего класса в России. Отвергают они и представление о существовании где бы то ни было единого гомогенного среднего класса: речь может идти лишь о совокупности различных групп. Вместе с тем исследователи БЭА соглашаются с тезисом, что «собственно средний класс в том смысле, в котором он существует на Западе, в России пока не сформировался, а если и существует, то в очень ограниченных масштабах».
Используя вторичный анализ эмпирических данных, собранных различными научными центрами, они выделяют пять признаков, или критериев идентичности среднего класса: 1) доходы, 2) владение недвижимым имуществом, 3) обладание движимым имуществом, 4) профессионально-квалификационный статус, 5) «демонстрация успешного экономического поведения в новых экономических условиях». На основании этого многокритериального подхода БЭА вычленяет несколько групп населения ~ в соответствии с концентрацией признаков, определяющей уровень их развития в качестве потенциальных или реальных компонентов среднего класса. Группы, обладающие одним-двумя из названных признаков, авторы относят к «протоклассам», тремя признаками ~ к «ядру среднего класса», составляющему, по их подсчетам, 20~25% населения. Протосредние классы в своем подавляющем большинстве (80% семей) состоят из горожан, в богатых регионах они охватывают 37~40%, в средних и бедных регионах ~ 12~13% семей. Всеми пятью признаками среднего класса обладают, т. е. очевидно, приближаются по всем параметрам к западным средним классам, по данным БЭА, лишь 1~2,5% семей. Принципиально важное методологическое значение имеет тезис авторов, что « тип социального действия рассматривается... в качестве основной группообразующей характеристики социальной структуры» [61, c. 39~42].
Подведем некоторые итоги нашему (повторим, далеко не полному) обзору российской научной литературы о среднем классе. Одним из таких итогов представляется предположение об исчерпанности дискуссии о наличии или отсутствии, границах и «подлинности» российского среднего класса. Не в том, разумеется, смысле, что вопросы о критериях выделения и количественных параметрах «срединной» части социального пространства вообще не заслуживают дальнейшего изучения. Напротив, эти вопросы весьма важны как для отслеживания динамики социальной структуры, так и для понимания уровня социально-экономической дифференциации и поляризации российского общества, так или иначе влияющих на характер общественных отношений, прежде всего на факторы, способствующие или препятствующие развитию социальных конфликтов. Названные дискуссии исчерпаны в том смысле, что поскольку наличие весомой «срединной» части сообщества более или менее доказано, дальнейшее оперирование категорией «средний класс», что подразумевает целостное социальное образование (группу), теряет аналитическое значение. Ибо не менее убедительно доказано, что в качестве такой целостности он просто не существует и кроме «срединности» ему крайне трудно приписать какие-либо общие содержательные характеристики.
Аналитический смысл этой категории, по всей видимости, для многих исследователей заключался в возможности изучать социальную структуру российского общества, сопоставляя ее с западной моделью, основой которой является, как принято считать, средний класс. Однако такое осмысление проблемы представляется неадекватным по двум обстоятельствам. Во-первых, оно вольно или невольно побуждает приписывать западной модели определенность и консистентность, которые идеализируют ее, превращают в некую позитивную противоположность российскому негативу. По ряду параметров эта модель приобретает в результате черты артефакта. Это относится, например, к имплицитному представлению об относительной целостности, если не монолитности, западного среднего класса, о неизменности его стабилизирующей роли в институциональной системе. Между тем, в любом западном учебнике социологии констатируется гетерогенность этого класса, широко распространенным является разделение его на «старый» ~ предпринимательский средний класс ~ и новый слой наемных работников умственного труд (., например, исследование Э. Гидденса [80, p. 219~220]. Автор отмечает различия в социально-политическом поведении этих компонентов среднего класса.)а. Понятно, что между американским или французским лавочником и университетским профессором сходства не намного больше, чем между представителями различных средних слоев в России. Как отмечалось выше, достаточно относительными и ситуативными являются на Западе как стабильность различных средних слоев, так и их стабилизирующая роль в социально-политической жизни. Получается, что российская действительность сопоставляется не столько с западными реалиями, сколько с их определенной идеологизированной интерпретацией, о которой говорилось в начале данного раздела.
Во-вторых, как справедливо отмечают некоторые отечественные авторы, представляется достаточно проблематичной сама возможность безоговорочного применения «западных» критериев стратификации к изучению современного российского общества. Теории иерархической стратификации возникли на почве общества с устоявшейся и относительно стабильной институциональной системой, с более или менее общепризнанными нормативными принципами, определяющими позиции индивидов в социальной иерархии. Представители функционалистской социологии, сыгравшие ведущую роль в разработке современной теории стратификации, видели в ней функционально необходимый компонент системы, «находящейся в равновесии». Американские теоретики стратификации Т. Парсонс, К. Дэвис и У. Мур полагали, что социальная иерархия основывается на господствующих в обществе принципе меритотократии и ценностях достижения. Характерно, что критики функционализма одними из главных недостатков этих теорий полагали как ошибочные исходные представления о стабильности общества, так и недооцененность происходящих в нем изменений [50, c. 79, 80; 77]. В свете этого особенно сомнительной выглядит применимость данной теории и методологии к российскому обществу, которое представляет собой сегодня своего рода «царство нестабильности (этом отношении характерна несколько противоречивая позиция Н.Е.\~Тихоновой. С одной стороны, она утверждает, что «в целом в общеметодологическом плане наиболее перспективным для анализа стратификации в России представляется структурно-функциональный подход», с другой\~~ отмечает недостаточность для этой цели структуралистского подхода и «неприменимость» функционального подхода в целом как «методологической основы» такого анализа (см. [56, c. 10, 11]. Для нашей темы важно, что представление о среднем классе как стабильном компоненте вертикальной социальной структуры с определенным статусом и функциями более всего соответствует именно структурно-функциональной парадигме.)». Отечественные специалисты по стратификации отмечают хаотичность и разнонаправленность социально-структурных процессов, сосуществование различных параллельных структур, возможность различных альтернативных сценариев их будущего развития [50, c. 38, 39].
Сказанное не отрицает ни значения веберианской и структур-функционалистской теоретической традиции для изучения социально-структурных процессов в России, ни необходимости сопоставления западных и российских реалий в данной сфере. Важно лишь избегать соблазна «втискивать» трансформирующуюся российскую действительность в относительно иммобильные теоретические модели западной социальной структуры, а в сравнениях придерживаться конкретно-исторического подхода, т. е. сравнивать отечественную действительность не с этими моделями, а с конкретными по месту и времени социальными феноменами и процессами.
Основное значение отечественных работ, посвященных проблеме состава и границ среднего класса, заключается, на наш взгляд, не в выявлении в российском обществе некоей особой группы, общности или слоя, которому можно присвоить это название. Наиболее существенный их результат состоит в определении того «поля» российского социума, на котором возникают принципиально новые конструктивные компоненты социальной структуры, порожденные процессами модернизации. Или, точнее, поля поиска этих компонентов, которому присваивается условное наименование «средний класс». В этом плане работы по данной проблематике можно сравнить с геологическими исследованиями, выявляющими территории, на которых целесообразно искать золото или нефть. В сущности, поиск социально-структурных проявлений или последствий модернизации образует имплицитную или эксплицитную интенцию отечественных исследований среднего класса. При этом одни авторы формулируют эту интенцию в качестве стратегической цели таких исследований, другие выявляют и анализируют конкретные модернизационные тенденции в экономическом и социальном поведении различных групп и слоев российского общества.
Именно такой путь исследования ~ переход от выяснения очертаний «поля» к осмыслению и изучению его действительно плодородных «участков» ~ представляется наиболее перспективным. Однако для работы на этом направлении необходимо более ясно и конкретно определить адекватную ему теоретическую базу и способы исследования.
РОССИЙСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ: ПРОБЛЕМА СУБЪЕКТА
Гипотезу, из которой исходит настоящее исследование, кратко можно сформулировать следующим образом: часть российского общества, описываемая как средний класс, обладает способностью генерировать социальных субъектов модернизации. Проверка этой гипотезы невозможна без хотя бы самого общего предварительного теоретического осмысления особенностей проблемы модернизации в современной России, а также вопроса о субъекте модернизации, который является, по мнению многих исследователей, центральным пунктом этой проблемы.
Содержание самого понятия «модернизация» достаточно дискуссионно, и представители различных научных школ интерпретируют его по-разному. Одни исследователи рассматривают модернизацию как движение относительно отсталых стран Юга и Востока по пути, проложенному развитыми странами Запада или Севера, приближающее их к технико-экономическим и социально-политическим эталонам, заданным Западной Европой и Северной Америкой. Другие пытаются определить модернизацию вне связи с какими-либо эталонами, исходя прежде всего из потребностей, порождаемых всеобщим процессом изменения, присущим человеческому обществу. Мы не будем вникать в существо подобных споров. Для нашей цели достаточно исходить из существующего и в отечественной науке, и в общественном мнении представления о необходимости глубоких изменений во всех сферах российского общества ~ в экономике, социальных отношениях, политической практике.
Определенные политические течения и общественные слои хотели бы направить эти изменения вспять ~ по пути возврата к «реальному социализму» или даже к дореволюционной России, другие ~ хотя это мнение открыто не выражается и не аргументируется ~ предпочли бы «заморозить» нынешнюю ситуацию. В первом случае речь идет, скорее всего, об утопии, во втором ~ о нежелании (в силу определенных своекорыстных интересов) или бессилии выйти из глубокого структурного кризиса, который переживает российское общество. Подавляющее же большинство россиян заинтересовано в преодолении кризиса, и те, кто хотят изменений, чаще всего понимают их как ликвидацию многочисленных изъянов сложившихся экономических, социальных, политических отношений, требующую их обновления. В 1996-2000 годах (за исключением нескольких месяцев после августовского кризиса 1998 года) среди опрошенных социологами россиян число людей, считавших необходимым продолжение рыночных реформ, превышало число желающих их прекращения [11, c. 14]. Это относительное большинство, достигавшее трети или несколько более взрослого населения, в сущности выступало за модернизацию.
Сопоставление отечественных научных трудов, политических программ и публицистики, а также анализ общественного мнения показывают, что существует несколько более или менее общепризнанных в России целей реформирования. К их числу относятся: эффективная и растущая экономика, позволяющая повысить жизненный уровень населения, радикальное улучшение системы социальной защиты и социального обслуживания, восстановление порядка в государстве и в обществе, радикальное улучшение работы госаппарата и правоохранительных органов, искоренение коррупции. Хотя в обществе существуют различные мнения по поводу оптимального соотношения рынка и государственного регулирования, частной и государственной собственности, тем не менее, само развитие цивилизованного рынка ~ никем не оспариваемый ориентир реформ. Хотя понятие демократии в известной мере дискредитировано постсоветским опытом и у многих россиян нет ясного понимания его смысла, большинство хотело бы подчинить деятельность власти интересам и воле граждан.
Если цели модернизации более или менее самоочевидны и не вызывают особых дискуссий ~ во всяком случае среди тех, кто не сомневается в ее принципиальной необходимости, то их достижение, тем более в обозримом будущем, почти столь же единодушно признается крайне трудным, а то и вообще сомнительным. Эти общественные настроения совпадают и с размышлениями многих представителей российской и зарубежной научной мысли. Весьма характерна в этом отношении широко известная книга польского политолога А. Пшеворского, посвященная сопоставлению опыта политических и экономических реформ в Восточной Европе и Латинской Америке. Ее довольно пессимистические выводы тем более показательны, что они относятся в частности к странам, в которых условия проведения рыночных и демократических реформ значительно более благоприятны, а их первые итоги намного более успешны, чем в России.
«Реформа экономики, ~ пишет Пшеворский, ~ подобна прыжку в омут: она стимулирована отчаянием и надеждой, а не реальным расчетом... Стратегия реформ часто ...не учитывает в полной мере социальную цену, которая должна быть за нее заплачена... И даже если подобные реформы поначалу получают всеобщую поддержку, то по мере продвижения реформ вперед и ухудшения качества жизни их поддержка заметно уменьшается... Сталкиваясь с политическим противодействием, правительство скорее всего будет колебаться между технократическим стилем управления ...и уступками, необходимыми для сохранения какого-то согласия. Правительства отказываются от проведения каких-то важных реформ или откладывают их на неопределенный срок. И каждый раз первоначальная уверенность в успехе реформ тает. В конце концов колебания в действиях ...правительств становятся политически дестабилизирующими общество. Искушений авторитаризмом тогда уже не избежать» [47, c. 296, 297]. Книга Пшеворского была опубликована в 1992 году. В 2000-м она читается как сбывшийся прогноз событий девяностых годов в России.
Польский автор не ставит крест на реформах в постсоциалистических странах Европы и поставторитарных странах Латинской Америки. Он анализирует не только неудачи, но и успехи, приводит примеры реального продвижения модернизации. Пафос его работы ~ в акцентировании объективных трудностей модернизации в условиях бедных стран, пытающихся одновременно решить проблемы перехода к эффективной рыночной экономике и демократизации политического строя. Главная из этих трудностей ~ формирование стабильной социальной поддержки реформ в условиях, когда они не приводят непосредственно к улучшению положения основной массы населения, требуют материальных жертв от значительной части этой массы, располагающей в то же время правом выбирать и сменять власть. В рисуемой Пшеворским картине единственной активной движущей силой реформ являются специалисты-технократы, зависящие от правительств, которые часто не в состоянии устойчиво поддерживать их реформаторскую деятельность, поскольку зависят, в свою очередь, от настроений избирателей.
Таким образом, модернизацию фактически тормозит отсутствие достаточно крупной и влиятельной социальной силы, которая могла бы выступить в качестве ее субъекта: единственным более или менее последовательным ее сторонником является крайне узкий слой технократической элиты. Можно отметить, что эта ситуация далеко не нова и давно уже рассматривается как своего рода универсальная для модернизационного процесса. «Закон жизни отсталых государств среди опередивших: нужда реформ созревает раньше, чем народ созревает для реформы». Эта фраза принадлежит русскому историку В.О. Ключевскому и написана еще в начале ХХ века.
Из этого «закона жизни», собственно, и возникает тот «соблазн авторитаризма», о котором пишет Пшеворский. Если «народ» или хотя бы достаточно значительная его часть не созрели для реформы, ее единственной движущей силой становится воля высшей государственной власти. В условиях, когда непосредственный политический стимул к экономической модернизации возникает под влиянием демократизации, это означает свертывание демократии и замену старого, консервативного или «застойного» авторитаризма новым реформаторским.
В России разговоры о необходимости подобного авторитарного сценария возникли еще до начала широкомасштабных реформ, в период перестройки. Его пропагандировали в прессе отдельные публицисты, и даже в кругах «Демократической России» обсуждалась идея о желательности «русского Пиночета». Впоследствии под влиянием первого опыта реформ авторитарную альтернативу стали разрабатывать авторы серьезных научных трудов.
В вышедшем в 1994 году коллективном труде РНИСиНП проблемы развития России исследуются в свете мирового опыта модернизации. Полагая, что целью модернизации России является создание условий для ее «постиндустриализации», авторы среди прочих проблем, возникающих на этом пути, затрагивают и вопрос о социальном субъекте данного процесса. Такими субъектами они считают наиболее квалифицированную часть научно-технической интеллигенции, особенно представителей фундаментальной науки, работников высокотехнологичных и конкурентоспособных секторов ВПК, часть высококвалифицированных рабочих, предпринимателей и фермеров, офицеров, прежде всего тех родов войск, где используется новейшая техника. В то же время значительно более широкие слои населения, в том числе «значительные массы индустриальных рабочих, инженеров ...служащих госучреждений и госпредприятий, часть предпринимателей и занятых у них по найму работников» могут, по мнению авторов, составить социальную базу более скромной по своим задачам, позднеиндустриальной модернизации». Однако из дальнейшего изложения выясняется, что решающим субъектом российской модернизации, будь то постиндустриальной или позднеиндустриальной, являются не эти социальные группы, а ... авторитарное государство. «Необходимость авторитаризма в России, ~ пишут авторы, ~ обусловлена характером российского общества, тем, что ему предстоит перейти от состояния, в котором сильны черты традиционности и добуржуазных общественных отношений, к рыночному хозяйству и гражданскому обществу. Это означает глубокую ломку и преодоление сопротивления со стороны старых общественных структур и старого общественного сознания». Авторитарный режим, способный решить все эти задачи, должен быть, по мнению авторов, «просвещенным», «реформаторским», «либерально-технократическим» и патриотическим, он должен опираться на «передовые, заинтересованные в модернизации слои», «учитывать различные интересы различных общественных групп» [31, c. 101, 105].
Позднее ~ к концу президентства Ельцина ~ подобные идеи получили широкое распространение в российских интеллектуальных и политических кругах. В связи с избранием президентом Путина и возлагавшимися на него надеждами, перспектива «дрейфа к авторитаризму», радующая одних, пугающая других, стала одной из ходячих тем в дискуссиях о ближайшем будущем России. Правда, теперь ему присваивается беззастенчиво заимствованный у полузабытого индонезийского диктатора псевдоним «управляемая демократия», что, по словам редактора одной из «интеллектуальных» газет, означает «всего лишь игнорирование главным институтом власти ~ президентом ~ слов и действий парламента, оппозиции, прессы, если президент сочтет это необходимым в интересах развития страны» [57; 8, с. 142, 143; 66, с. 29~31].
Если говорить не о подобной сервильной пропаганде, а об «академической» концепции «просвещенного авторитаризма», в ней бросается в глаза одно логическое противоречие. Роль социального субъекта предполагает значительную степень интеллектуальной и практической автономии выполняющих эту роль людей и групп, этот субъект должен обладать «полем свободы», относительной независимостью от власти. Авторитарный режим ничего подобного не допускает, он, по словам авторов труда РНИСиНП, означает «преобладание государства над обществом, ...доминирование исполнительной власти над законодательной и судебной, ...ограничение в той или иной форме легальной оппозиции» [31]. Таким образом, если какой-либо «субъект модернизации» разойдется с властью в понимании тех или иных вопросов, он, поскольку государство «господствует» над обществом, а следовательно, и над «социальными субъектами», практически будет лишен реальных прав отстаивать свои позиции: в этом случае последнее слово принадлежит государству. Тем более, что, как отмечается в цитируемом труде, все будет происходить в рамках сформированного «модернизаторским авторитаризмом» «идейно-политического консенсуса в обществе». «Субъект», которому запрещено выходить из этих рамок, конечно, уже никакой не субъект, а всего лишь, в лучшем случае, пассивная база «авторитарной власти».
Главный аргумент против авторитарного сценария не сводится, однако, к его логической противоречивости. Важнее другое: сама возможность «просвещенного авторитаризма» в сегодняшней России крайне сомнительна и этот сценарий, скорее всего, может быть отнесен к разряду утопических.
В авторитарном сценарии главная надежда и ответственность за успешный ход модернизационного процесса возлагается на высшего правителя страны. Возникновение такого просвещенного авторитарного лидера на политическом горизонте России само по себе ~ не более чем чисто теоретическое допущение, и может произойти лишь в результате некоей счастливой случайности. Но даже если Бог или судьба даруют России такого лидера, возникает вопрос, является ли его личная воля достаточным условием для осуществления модернизационных реформ. Ответ будет утвердительным, только если допустить, что эту волю беспрекословно и усердно выполняет формально подчиненный лидеру аппарат исполнительной власти, что бюрократия, образующая все звенья и уровни этого аппарата, будет рассматривать проведение реформ как свое кровное дело, что цели и ценности модернизации будут реально мотивировать ее управленческую деятельность. А вот такое допущение в условиях России представляется вовсе утопическим.
Кардинальное отличие России от тех латиноамериканских и азиатских стран, которые в условиях авторитарных режимов успешно начали осуществление масштабной модернизации, состоит в том, что к началу этого процесса в этих странах уже существовал значительный сектор рыночной экономики. Каким бы отсталым по различным параметрам ни был этот сектор по сравнению с экономикой развитых стран, представлявшие его группы буржуазии, менеджеров, мелких собственников составляли влиятельную часть общества, разделявшую «рыночные» ценности и поведенческие установки. В России, если не считать дельцов теневой экономики с присущим им в силу обстоятельств криминальным или полукриминальным менталитетом ничего подобного к началу реформ не было. У нее не было даже того ограниченного опыта рыночной модернизации, которая в ряде социалистических стран Восточной и Центральной Европы уже сформировала к моменту краха социализма эмбриональные компоненты предпринимательского слоя. Не было в российском обществе ~ в силу длительности тоталитарно-социалистического этапа его истории ~ той преемственности по отношению к досоциалистической экономической и политической культуре, которая в той или иной степени сохранилась и в этих странах, и в прибалтийских республиках Советского Союза.
Бюрократия авторитарных, осуществляющих модернизацию государств не могла не иметь достаточно интенсивных генетических и синхронных социальных, социально-психологических, культурных связей со слоями, в этой модернизации заинтересованными, не могла не испытывать их влияния. Российская постсоциалистическая бюрократия, как доказано в многочисленных отечественных исследованиях, вышла в основной своей массе из номенклатурной советской бюрократии. Возникшие рыночные отношения создали для нее широкие возможности использовать позиции власти для захвата собственности и присвоения частной прибыли ~ как непосредственно, так и через патрон-клиентские связи с приближенными к ней структурами частного бизнеса. А также для резкого расширения практики поборов и взяток, разграбления бюджетных средств. Конечно, в составе бюрократии есть какая-то доля честных и реформаторски ориентированных чиновников, но это не меняет преобладающих тенденций, «правил игры» бизнес-бюрократических элит. Эти «правила» сформировались в условиях неразвитости гражданского общества, ослабления бюрократической дисциплины и контрольных функций высших звеньев власти по отношению к низшим, политических органов по отношению к хозяйственным, так или иначе осуществлявшихся старой номенклатурной системой.
В то же время постсоциалистическая бюрократия унаследовала от старой номенклатуры авторитарные менталитет и стиль руководства, консерватизм, неспособность подчинять свою деятельность общественно значимым целям и ценностям. Главный ее интерес состоит в укреплении и расширении собственной власти, поэтому постсоциалистическая бюрократия сопротивляется любым структурным преобразованиям, способным расширить реальные права и возможности экономических и социальных субъектов, от этой власти независимых. В эмпирических исследованиях, посвященных региональному чиновничеству, отмечается, что представители этого слоя озабочены прежде всего своими корпоративными интересами и их ментальность «лишена выраженных ценностных установок», что эти интересы состоят во всесилии номенклатуры, ставке на «принуждение в организации и осуществлении власти». В среде бюрократии царит «культ незыблемости и социально-политической прочности правящего номенклатурного клана, ...культ личной власти, возвышения лидера над правовым пространством и подчинение (напрямую или косвенно) информационного поля» [8, c. 142, 143; 66, c. 29~31].
В социологических исследованиях отмечается взаимная отчужденность бюрократических элит, в том числе региональных, и общества. «Складывается впечатление, ~ говорится в одном из них, ~ что власть живет в своем собственном социальном пространстве, а интерес к населению региона у нее возникает лишь накануне выборов. Взаимное непонимание, существующее между широкими слоями населения и элитами регионов, усиливает феномен неудовлетворенности граждан своими элитами и отражается на действиях самих руководителей» [33, c. 61].
Современная российская бюрократия и бюрократическая элита представляют собой, таким образом, нечто диаметрально противоположное идеотипической рациональной и компетентной бюрократии М. Вебера, в которой немецкий социолог видел надежное орудие осуществления идей и замыслов харизматического лидера. Эвентуальному российскому авторитарному лидеру, независимо от наличия или отсутствия у него харизмы, пришлось бы иметь дело с совсем иным «орудием», способным, в силу присущих ему свойств, лишь угробить любые модернизаторские замыслы.
Что же касается тех социально-профессиональных групп, которые, по мнению теоретиков «просвещенного авторитаризма», могли бы в качестве субъектов модернизации оказать поддержку такому лидеру, то установившийся характер отношений бизнес-бюрократических элит со всеми не входящими в них социальными группами исключает их совместное участие в модернизационном процессе. Ведь осуществление теми или иными группами роли субъекта этого процесса потребовало бы от этих элит и учета их интересов, и определенного перераспределения в их пользу своих «хозяйских» функций. То плачевное материальное и социальное положение, в котором находятся ныне такие «субъекты модернизации», как, например специалисты по высоким технологиям из ВПК или представители фундаментальной науки, наглядно свидетельствует о том, насколько постсоветская бюрократия готова мобилизовать человеческие и интеллектуальные ресурсы модернизации.
По изложенным причинам сценарий «просвещенного авторитаризма» не может рассматриваться как путь к решению в российских условиях проблемы субъекта модернизации. На наш взгляд, поиск этого пути требует иного подхода, чем те, которые применялись до сих пор теоретиками и практиками российской модернизации.
Большинство этих подходов при всех весьма существенных различиях между ними объединяет некий общий методологический принцип, который может быть назван институциональным детерминизмом. Они явно или неявно исходят из постулата, согласно которому учереждение в обществе новых, выражающих потребности модернизации институтов представляет собой не только необходимое (с чем нельзя не согласиться), но и достаточное условие ее, модернизации, осуществления. Так, российские реформаторы первой волны полагали, что разрушение институциональной системы плановой («административно-командной») экономики, введение частной собственности, свободы предпринимательства и других рыночных институтов, проведение приватизации даст необходимый стимул для развития современной рыночной экономики. Неудачу (или весьма ограниченный «модернизационный эффект») этой программы неверно было бы объяснять только непоследовательностью, незавершенностью рыночной реинституционализации. Сама эта незавершенность появилась в результате столкновения рыночной и демократической институционализации с объективными и субъективными факторами, которые не были учтены в стратегии, исходившей из ее детерминирующей роли в процессе модернизации. Вследствие чего и возник далекий от первоначальной цели реформ «номенклатурный» ~ или бюрократический ~ капитализм.
Эта стратегия стала объектом не только идеологической и политической, но и серьезной теоретической критики. Глубокое философское осмысление проблем модернизации вообще, российской модернизации в особенности, мы находим, например, в монографии Б.Г. Капустина [28]. Критика теоретических основ российского либерального реформаторства развернута в ней в тесной связи с критикой западных транзитологических теорий и ~ в более широком плане ~ теорий модернизации, которые автор объединяет термином «акультурные». Эти теории «описывают модернизацию и Современность в понятиях, являющихся нейтральными по отношению к рассматриваемой культуре. Они отражают не ее собственное изменение из одного состояния в другое, но осуществление некоторых закономерностей, принципов или формирование определенных институтов. являющихся универсальными, способными трансформировать любое «традиционное» общество и приходящими ему на смену».
Именно так понимали модернизацию российские реформаторы и их западные советники. Они полагали, что разрушение социалистических институтов само по себе приведет в действие всеобщие экономические законы, ранее сформировавшие западный капитализм. А образование адекватных им институтов естественно будет способствовать превращению мыслящего и действующего в соответствии с этими законами «экономического человека» в центральную фигуру модернизирующегося (переходного) общества.
Главная ошибка подобных теорий состоит, по Капустину, в том, что они игнорируют, во-первых, культурные основы «Современности» и модернизации и, во-вторых, культурный контекст, в котором осуществляется модернизация каждого конкретного, в том числе российского, общества.
Критикуя таким образом «экономическую» разновидность институционального детерминизма, Капустин не оставляет камня на камне и от той его политической разновидности, которую представляет собой рассмотренная выше концепция «просвещенного авторитаризма». Какие основания, спрашивает он, думать, будто «просвещенный автократ» будет заботиться о модернизации, а не о каких-то своих собственных, совсем не соответствующих ее целям интересах? И «разве мы имеем право тешиться такими представлениями о политике, что какой-то властелин способен сделать что-то существенное без поддержки, одобрения, «легитимации» достаточно сильных общественных групп? ...Не разумнее ли вместо обсуждения степени просвещенности автократа и его антуража поговорить именно об этих группах, достаточно или недостаточно сильных для того, чтобы осуществить стремления властелина? Или чтобы заставить его сделать то, что в его стремления не входит?».
Эти риторические вопросы не только вполне оправданы, но и дают, на наш взгляд (особенно последний на них), весьма полезные методологические ориентиры для исследования российской модернизации. Капустин, однако, не ограничивается критикой, но формулирует свое собственное теоретическое понимание проблемы. Он связывает его с постулатами «культурных теорий» модернизации. Эти теории «не игнорируют изменения институтов, но поскольку та или иная осмысленность и целесообразность присущи любым социально значимым действиям людей, постольку новые институты как организованные комплексы их действий могут возникнуть и функционировать лишь будучи понимаемы ими, лишь соответствуя некоторым схемам смыслов и значений (т. е. культуре. ~ Г.Д.), которыми эти люди обладают... Только благодаря такому пониманию и символическому опосредованию людьми внешних условий и обстоятельств их бытия становится возможным их действие по отношению к этим условиям».
Автор пытается предложить свою альтернативу институциональному детерминизму, представлениям о всеобщих законах модернизации и иным «акультурным» теориям. Он исходит из посылки, что такую альтернативу следует искать в рамках «культурной парадигмы теорий Современности». В связи с этим Капустин высказывает ряд интересных и глубоких мыслей по поводу механизмов краха коммунизма и посткоммунистического развития России. К их числу принадлежит, на мой взгляд, идея «контекстуальности» этих процессов, из которой следует вывод о бесплодности модернизаторской стратегии, целиком основанной на принципе «западного» опыта. Но это констатация, так сказать, негативного плана. Что же касается позитива, то Капустин усматривает специфику российской модернизации в отсутствии у нее свойства «естественности», в зависимости ее судеб «от конкретных решений конкретных людей», «от соотношения сил, напряжения воль, смелости и глубины замыслов». Подлинным субъектом модернизации является, по Капустину, народ, понимаемый как часть населения, способная «выработать общую волю». А условием такой выработки является «развитие ... предельно свободного публичного диалога».
Переходя от формулирования этих идеальных целей к реальной действительности, автор обозначает «суть» российской модернизации, которая состоит, по его мнению, в поиске выхода из замкнутого круга, образуемого взаимосвязью и в то же время «взаимоисключением», взаимным отрицанием трех составляющих реформ: устойчивого конституционализма, демократии и экономического либерализма. Этот замкнутый круг Капустин описывает в терминах, напоминающих изложенную выше концепцию Пшеворского. Демократия, по его мнению, являющаяся «категорическим императивом» для России, вступает (отражая интересы большинства населения, ущемляемого либеральными реформами) в конфликт с экономическим либерализмом, но, в то же время, она «необходима для конституционализма, который, в свою очередь, является важнейшим условием рыночных либеральных реформ».
Дать анализ ситуации и сформулировать проблему еще не значит предложить ее решение. Поиск альтернативы «акультурным» теориям российской модернизации оказывается у Капустина незавершенным ~ хотя бы даже в сугубо теоретическом плане. К тому же остается не вполне понятным, как именно этот поиск связан у него с «культурной парадигмой». Некоторый намек на эту связь дает размышление автора о том, что «главная» российская проблема не является уникальной, что и Запад стоит перед проблемой образования «другой современности», которая, как и в России, не может быть решена путем воспроизводства естественных основ общества, а решается на основе мобилизации «производящей силы демократии». Очевидно, и здесь и там речь идет об изменении именно культурных основ и, говоря конкретнее, основ демократической культуры на Западе и создании принципиально новой (т. е. не воспроизводящей «старую» западную) демократической культуры в России. Но если не разгадывать этот намек, а строго придерживаться капустинской формулировки «главной» российской проблемы, речь идет все же о проблеме не культурной, но институциональной ~ конфликте между институтами свободного рынка, конституционного порядка и демократии. Тем самым как бы приоткрывается лазейка для того же институционального детерминизма...
Здесь стоит оговориться, что грань между культурным и институциональным вообще достаточно расплывчата и подвижна, что эти сферы в значительной мере совпадают. Определенный комплекс легитимированных культурных норм и ценностей составляет «базис» любой институциональной системы. Но это, на наш взгляд, свидетельствует о том, что ни культурный, ни институциональный детерминизм не являются до конца альтернативными парадигмами в объяснении процессов модернизации, что ни культура, ни институты при всем их значении не могут рассматриваться как своего рода первичные факторы этих процессов.
Интересно, что Капустин ~ в совершенно иной связи ~ указывает и направление, в котором стоит вести поиск иных факторов. Формулируя свое понимание «Современности», он утверждает, что ее проблема «есть проблема установления Порядка при и на основе «абсолютной самостоятельности» индивида, т. е. не ценой ее подавления и без деградации в гоббсовскую войну «всех против всех» [28, с 24, 39~72, 80~82, 88, 254, 255, 289~291]. Такой порядок, естественно, должен быть институциональным и функционировать на основе определенных культурных норм, но Капустин не упоминает здесь ни о том, ни о другом, а ведет речь об «абсолютно самостоятельном» и вместе с тем готовом соблюдать этот порядок индивиде. Может быть, эти качества индивида, пути их формирования как раз и являются тем уровнем действительности, анализа которого недостает и институциональному, и культурному детерминизму? Если это так, не следует ли включить реального, живого индивида в сферу и теоретического, и эмпирического анализа модернизационных процессов?
О ПОЛЬЗЕ «МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ИНДИВИДУАЛИЗМА»
Сформулированные вопросы относятся, скорее, к сфере социологической теории: ведь именно для социологии едва ли не главным предметом являются взаимодействие индивидов, конкретные «эмпирические» отношения между индивидом и группой, индивидом и обществом. Поэтому есть смысл выяснить, насколько классическая и современная социологические теории могут содействовать построению «модели» российской модернизации.
Наибольшего внимания в этом плане заслуживают теоретические концепции социальных изменений, выработанные в рамках различных социологических школ и направлений. В современной социологической литературе один только критический обзор этих теорий является темой объемистых монографи (., например, [68].)й. То же относится и к тем из них, которые посвящены проблемам современной модернизации, имеющим более непосредственное отношение к нашей теме. Для нашей задачи важно в первую очередь уяснить, как современная социология осмысливает итоги теоретического опыта в данной сфере, к каким альтернативным исследовательским стратегиям подводит этот опыт.
Значительный интерес в этом отношении представляет работа французского социолога Р. Будона «Место беспорядка», посвященная, как отмечается в ее подзаголовке, критике теорий социального изменения [9]. Эта критика направлена прежде всего против номотетических (по терминологии Ж. Пиаже) теорий, пытающихся обосновать некие универсальные законы (греч. nomos ~ закон) таких изменений. Для этих теорий характерен, по Будону, «структуралистский предрассудок» ~ представление о том, что любая социальная система является структурой, различные элементы которой связаны таким образом, что изменение в одном из них влечет за собой жестко определенные изменения во всех других. Многие эти теории исходят из принципа первопричины социальных изменений, согласно которому их первичная движущая сила (primum mobile) носит, в соответствии с логикой номотетического подхода, универсальный характер.
Нетрудно заметить, что общей чертой всех выделяемых таким образом теорий является детерминизм ~ представление о зависимости социального поведения людей и его изменения от внешних по отношению к ним детерминирующих факторов. В одних теориях в роли таких детерминантов выступают новации в технике (технологический детерминизм), в других ~ экономические преобразования. В марксистской концепции детерминантами предстают производительные силы и производственные отношения, порождаемые ими классовые антагонизмы. Помимо различных видов экономического детерминизма весьма влиятельные позиции в социологии конца XIX-XX веков завоевал культурный и институциональный детерминизм. В ранг движущих сил социальных изменений выдвигаются политические институты, институциональные нормы, культурные ценности. В некоторых классических концепциях социальных изменений (Э. Дюркгейма, Т. Парсонса) им приписывается роль ведущего фактора в дифференциации социальных систем; в результате этой дифференциации формируются новые структурные единицы, со временем преобразующие всю структуру в целом.
Подводя итог своему анализу, Будон показывает безрезультатность всех попыток обосновать подобные универсальные законы и причинно-следственные связи. «Законы изменения, ~ пишет он, ~ абсолютные, универсальные или причинно-следственные ~ представляют собой пустую конструкцию» [9, с. 218]. Выведенные на основании анализа процессов, происходивших в определенных локальных и временных границах, они не подтверждаются опытом процессов, наблюдаемых вне этих границ. По мысли Будона, этот негативный вывод вовсе не отрицает ни значимости выявленных таким анализом причинно-следственных связей, ни детерминистского принципа как такового. «В сфере социального изменения детерминизм не является необходимым постулатом, а выступает в качестве констатации, но в зависимости от рассматриваемой ситуации ее приходится либо устанавливать, либо игнорировать. Детерминизм ... служит ... присущей отдельным процессам частной особенностью, отсутствие или наличие которой определяется структурой процесса» [9, с. 219].
Иными словами, общие закономерности нельзя выводить из анализа частного процесса. Анализ перехода от феодализма к капитализму в Западной Европе, предложенный К. Марксом, обладает несомненной научной ценностью, но он не обязательно применим к этому процессу в других регионах и в иные эпохи. Установленная М. Вебером связь между протестантизмом и генезисом капиталистического предпринимательства в некоторых европейских странах не означает, что религиозный фактор имел значение в возникновении этого феномена в Японии или Аргентине.
Будон, вместе с тем, не согласен с авторами, которые вообще отрицают возможность какой-либо обоснованной социологической теории изменений и предлагают ограничить их анализ традиционным историческим исследованием. Он выдвигает свою альтернативу номотетическому и детерминистскому подходу. С одной стороны, эта альтернатива состоит в «умеренном детерминизме»: социальное изменение рассматривается как результат пересечения нескольких (а не какой-либо одной) «цепочек» причин; каждая из этих «цепочек» может быть детерминированной, но сам факт их пересечения в данное время и в данном месте случаен. Какие именно «детерминизмы» образуют эти цепочки, можно установить только путем анализа как конкретных условий, в которых происходит изменение, так и конкретной структуры всего процесса.
С другой стороны, Будон развивает весьма интересный и плодотворный, на мой взгляд, общеметодологический принцип изучения социальных изменений. Он констатирует, что в критикуемых им теориях в качестве субъекта изменений выступают надындивидуальные инстанции ~ такие структурные компоненты социальных систем, как классы, культуры, институты, «коллективные представления» и т.п.; социологи как бы забывают, что не существует никаких социальных образований, функционирующих помимо или вне конкретных индивидов. Такому подходу Будон противопоставляет идущий от М. Вебера и Г. Зиммеля принцип «методологического индивидуализма», лежащий в основе «социологии действия»: «Фундаментальный принцип социологии действия заключается в том, что социальное изменение есть результат совокупности индивидуальных действий».
Веберовскую «парадигму действий» Будон изображает в виде формулы М=MmSM',
где М ~ это любой социальный феномен (в том числе социальное изменение или его отсутствие), m ~ сумма индивидуальных действий, S ~ ситуация, в которой находятся акторы, M' ~ влияющие на нее характеристики макросоциальной ситуации. Таким образом, феномен М, или социальное изменение, является функцией суммы индивидуальных действий, зависящих от собственной ситуации акторов, на которую влияет макросоциальная ситуация. Будон подчеркивает, что «методологический индивидуализм» не противоречит представлению о социальной сущности человека; он не исключает «анализа таких феноменов, как влияние и авторитет» и требует «объяснить поведение актора лишь в конкретной ситуации, которая частично определяется макросоциологическими переменными». Полагая социальное изменение результатом агрегирования поведенческих актов, непременно включающих акты мыслительные, он лишь исходит из того, что такие акты могут быть только индивидуальными (понятия типа «коллективная воля», «коллективное сознание» ~ не более чем метафоры) и анализ действия требует их понимания, «реконструкции их мотивации».
Ключевой принцип методологии Будона при изучении состоит в том, что индивид, индивидуальный актор, его конкретные мотивы и действия выделяются в качестве необходимой единицы анализа процесса социальных изменений. Это не значит, что индивид является ни от чего не зависящим «верховным сувереном» данного процесса, что он заменяет собой в качестве первичной движущей силы экономические, институциональные, культурные и иные «объективные» факторы, выдвигаемые на первый план детерминистскими теориями. Эти факторы, выстраиваясь в «цепочки причин», формируют макросоциальную среду (экономическую, институциональную, культурную) жизнедеятельности индивида и воздействуют на его мотивы и поступки, влияя тем самым и на его собственную объективную ситуацию, и на его сознание (представления, нормы, ценности). Но они не детерминируют их однозначным образом. Ибо сочетание этих факторов, их иерархия в каждом конкретном случае уникальны, не подчиняются каким-либо общим закономерностям и в этом смысле случайны. В одной конкретной ситуации на первый план могут выступать культурные факторы, в другой ~ экономические и т.д. «Механизмы изменения, ~ пишет Будон, ~ меняются от одного процесса к другому» [9, с. 155]. Но если сочетание такого рода факторов уникально («контекстуально», используя термин Капустина), то столь же уникален характер его воздействия на индивидов, а их реакция на него («происходящее в их головах», по словам Будона) выступает как относительно самостоятельный фактор процесса. Этот последний тезис Будон не формулирует, но к нему подводит вся логика «умеренного детерминизма» и «методологического индивидуализма». Иначе наличие в приведенной выше формуле компонента «М» (сумма индивидуальных действий) не имело бы смысла, и любой социальный феномен можно было бы рассматривать как автоматический результат объективных ситуационных факторов. Поведение индивидов, как известно любому социологу, является переменной, и к нему, на наш взгляд, целиком относится следующий тезис Будона: «в соответствии с тем, какой процесс мы анализируем, мы вынуждены рассматривать тот или иной тип переменных в одних случаях в качестве независимых, в других зависимых» [9, с. 154].
Очевидно, можно утверждать, что в зависимости от конкретной социально-исторической ситуации («контекста»), от структуры конкретного социального процесса, уровень относительной самостоятельности индивидуального действия является более или менее высоким. И зависит этот уровень от «силы», действенности надындивидуальных факторов, воздействующих на поведение индивидов. Если говорить конкретно о процессах модернизации, то таким фактором может стать, например, наличие экономических и технологических предпосылок для развития тех видов производства, которые способны обновить всю структуру экономики и социальную структуру данной страны или региона, материальную и социальную ситуацию массовых слоев населения, тем самым воздействуя на их поведение, систему мотивов и ценностей, на их требования по отношению к политическим институтам. В других ситуациях ведущая роль в процессах модернизации может принадлежать политическим институтам, либо таким ценностям и нормам тех или иных субкультур, которые соответствуют ее целям. Обычно сочетание такого рода факторов формирует коллективных субъектов модернизации, выступающих в качестве ее социальных движущих сил и ориентирующих поведение индивидов, принадлежащих к ним.
Важнейшая особенность условий российской модернизации состояла и состоит в том, что их характеризует крайняя слабость, если не полное отсутствие переменной «M'» будоновского уравнения ~ макросоциальных факторов модернизационного процесса. Данный тезис вряд ли нуждается в особой аргументации, ибо его подтверждают и вся практика российских реформ, и многочисленные научные исследования. Достаточно ограничиться кратким перечнем основных составляющих той антимодернизационной макросоциальной среды, которая образует один из важнейших детерминантов трансформации российского общества.
l В технико-экономической сфере действуют такие мощные тормоза модернизации, как доминирующее в обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве убыточное и технически отсталое производство, как уникальный уровень милитаризации промышленности и прикладной науки. Трансформация всего этого наследия «реального социализма» в современное конкурентоспособное производство, способное обеспечить устойчивый экономический рост, требует инвестиций, непосильных для национальной экономики, упирается в низкий уровень платежеспособного спроса и сопряжено с обострением социальных проблем, поскольку неизбежно затрагивает занятость широчайших слоев самодеятельного населения. Эта ситуация стимулирует антимодернизационное поведение бизнеса, использование капитала, главным образом, в сферах коммерции и финансовых спекуляций, его утечку за рубеж и т.п.
l В институциональной сфере далеко зашел процесс деинституционализации, выражающийся в неразвитости нормативно-правовой базы рыночной экономики; в дисфункциональности политических и правовых институтов; в противоречии между официальными конституционными принципами представительной демократии и традиционными авторитарными способами осуществления власти; в неурегулированности взаимодействия центральной и региональной, исполнительной и законодательной властей. За восемь лет реформ в стране не сложилось сколько-нибудь влиятельной и устойчивой модернизационной политической элиты, ее правящие круги не выработали осмысленной и последовательной стратегии модернизации, не сформировалось системы прямых и обратных связей между «политическим классом» и обществом, развитие институтов гражданского общества находится на эмбриональной стадии.
l В культурной сфере не произошло замены старой «социалистической» системы ценностей на новую, способную мотивировать и ориентировать модернизационную деятельность индивидов и групп. Роль такой социальной системы ценностей не смогла сыграть пропагандировавшаяся в начале периода реформ идеология индивидуального выживания, борьбы за существование и обогащение, так как подобная идеология начисто лишена необходимой для такой системы морально-этической составляющей. На почве ценностного вакуума усилились регрессивные культурные тенденции ~ почвенно-националистическая и великодержавная, ностальгически-«социалистическая», не дающие реального выхода к какой-либо социетальной альтернативе, но в значительной мере блокирующие культурную модернизацию. Ценности свободы и демократии, провозглашенные в начале реформ, существенно дискредитированы реальным социальным и политическим развитием; в обществе не сложилось сколько-нибудь ясных, осознанных представлений о демократическом идеале.
l В социально-психологической сфере устойчивы традиционные государственно-патерналистские установки, укрепляемые длительной кризисной социально-экономической ситуацией, пассивно-аттантистские формы адаптации (пресловутое русское терпение) и как наиболее типичная альтернатива им ~ агрессивный анархический, не ограниченный социальными нормами, нередко криминальный, индивидуализм. Обе эти тенденции влияют на макросоциальную психологическую атмосферу: первая имеет непосредственно антимодернизационный эффект, вторая содействует более усилению хаотичности, чем модернизационной направленности социальных процессов. В условиях когнитивного вакуума (люди не понимают, что происходит в обществе, каково направление его развития, чего ждать от завтрашнего дня) хаос ~ в общественном сознании ~ становится образом социальной действительности, а «восстановление порядка» ~ наиболее настоятельной и осознаваемой общественной потребностью. При этом уходит на задний план интерес к конкретному содержанию этого желанного порядка, к принципам, на которых он будет основан, теряет смысл различие между модернизационной и регрессивной перспективой. В этих условиях стремление к обновлению, выраженное, как отмечалось, в настроениях значительной части общества, сплошь и рядом не может воплотиться в практические действия.
Несомненно, во всех перечисленных сферах в той или иной степени проявляются не только блокирующие модернизацию, но и воплощающие ее тенденции: функционируют рентабельные, конкурентоспособные предприятия, отдельные органы власти и руководители осуществляют в рамках своих возможностей конструктивные преобразования, воспроизводятся островки либеральной и демократической культуры, рыночно-ориентированной и инновационно-созидательной трудовой и предпринимательской психологии. Проблема, однако, в том, что эти тенденции нередко «гасятся» либо резко лимитируются сопротивлением в тех же или во взаимосвязанных сферах и в результате не могут выйти на социетальный уровень. Так, например, успешное развитие какой-то группы малых предприятий всегда может быть пресечено произволом и поборами чиновников, а эффективно действующее местное демократическое самоуправление задушено вышестоящей региональной властью.
В большинстве исторических ситуаций модернизационный процесс выглядит как взаимодействие, своего рода взаимообмен между индивидами и надындивидуальными инстанциями ~ институтами, ценностными или идеологическими системами, культурными комплексами и течениями, социально-экономическими системами или их компонентами. Индивидуальная инициатива, «идея» ~ всегда первичное звено инновации, надындивидуальные образования выполняют функцию их стимулирования, легитимации и распространения. В наиболее развитых и успешно развивающихся обществах сам принцип инноваций вписан в институциональную и культурную, экономическую и политическую системы, макросоциальные факторы играют здесь поэтому важную самостоятельную роль во всех трансформационных процессах, что создает почву («гносеологические корни») институционального культурного и прочих детерминизмов.
В России, где эта роль несравненно слабее, индивид, обладающий способностями и волей к инновационной деятельности, становится решающим фактором модернизации. И, соответственно, не только необходимой, как в общей теории социальных изменений, но и центральной «единицей анализа» модернизационного процесса.
Данный вывод не означает, что модернизация в России обязательно осуществится и произойдет только благодаря совокупности индивидуальных действий. Во-первых, перспективы модернизационого процесса отнюдь не предопределены: вполне возможно, что в обозримом будущем российское общество ожидает стагнация, простое воспроизводство отношений, структур, того состояния экономики и политики, которое сложилось в результате первого этапа постсоциалистической трансформации. Во-вторых, одни только разрозненные действия людей, способных к инновационной деятельности, разумеется, не являются самодостаточным фактором модернизации: она не может существенно продвинуться вперед без радикальных изменений на макросоциальном уровне, в институциональной, политической, культурной сферах. Речь идет лишь о том, что в конкретной ситуации, сложившейся в России на рубеже тысячелетий, именно индивидуальные действия и воля являются решающим фактором, способным предотвратить полное замораживание модернизационного процесса, подготовить условия для изменения этой ситуации, именно они являются сегодня главным «модернизационным шансом» страны.
Можно предположить, что такого рода этап индивидуальных инноваций прошли все страны, совершившие переход от традиционного общества к современному. Историческая память запечатлевает главным образом то, что можно назвать «событиями»: масштабные экономические и социальные процессы, охватывающие широкие массы людей, меняющие облик общества, возникновение идеологических, политических, культурных течений, деятельность правительств и партий; судьбоносные политические решения. Она гораздо реже доносит до нас, если доносит вообще, менее заметную деятельность индивидуальных акторов, которая подготовила все эти исторические феномены.
Сказанное не означает, что российский путь модернизации просто повторяет некие общеисторические закономерности модернизационного процесса. Как отмечалось выше, во многих странах, прежде всего в Западной Европе и Северной Америке, этот процесс проходил на основе «взаимообмена» между индивидуальными инициативами и институциональными, культурными, социально-структурными, социально-политическими инновациями. В России модернизационный процесс разыгрывался, как известно, по иному сценарию: инициатива модернизации принадлежала высшей власти, которая предлагала (скорее, навязывала) ее мало готовому к радикальным преобразованиям обществу. С определенными модификациями, обусловленными историческим контекстом, этот сценарий повторился и в конце 80-х ~ 90-х годах ХХ века. Провозглашенная либеральной интеллигенцией и руководством страны цель ~ войти в современную цивилизацию, покончить с отсталостью и питавшим ее тоталитаризмом ~ была, несомненно, воспринята обществом, но к ее реализации оно оказалось не готовым. Глубокая драма, переживаемая современной Россией, состоит не просто в экономическом и политическом кризисе: ее питает разрыв между устремленностью к обновлению, напряженным ожиданием позитивных перемен и неспособностью осуществить их. Эта драма «материализуется» в противоречии между демократическими и либеральными принципами Российской Конституции, официальным образом «Свободной России» и реальной общественной практикой, она во многом определяет состояние общественного сознания. Разрыв между стагнирующей реальностью и модернизационными ожиданиями могут начать заполнять только индивиды, способные (в той или иной мере) преодолеть его в своей собственной жизненной практике.
Российская уникальность состоит, однако, не только в этом разрыве. В той или иной мере он характерен для всех стран, осуществляющих постсоциалистическую модернизацию. Один из его аспектов выражается в том «порочном круге», который описан А. Пшеворским. Известный венгерский экономист Я. Корнаи отметил отсутствие в условиях реального социализма социальных групп, экономически заинтересованных в переходе к рыночной экономике (Б.Г. Капустин называет этот тезис «парадоксом Яноша Корнаи» [28, с. 69]). Польский социолог П. Штомпка, автор одной из лучших современных работ по социологии социальных изменений, в качестве типичной особенности всех посткоммунистических обществ выделяет давящий на их развитие груз «наследия реального социализма». В этих обществах сосуществуют, по его словам, «отдельные островки современности ...и обширные районы, отмеченные архаикой (в отношениях, жизненных укладах, политических институтах, классовом составе и т.д.)». «Опыт посткоммунистических обществ, ~ пишет Штомпка, ~ однозначно свидетельствует о том, что не все возможно и достижимо и не все зависит от простой политической воли. В связи с этим гораздо больше внимания, чем раньше, обращается на ...неизбежные отступления, попятные ходы и даже провалы на пути модернизации» [68, с. 182, 183].
Эти общие для всех постсоциалистических стран ограничители модернизационной «политической воли» характерны и для России, но давление антимодернизационных факторов здесь (как и в большинстве других бывших советских республик) все же на порядок сильнее, чем в восточно- и центральноевропейских странах бывшего «социалистического лагеря». Во-первых, в силу отсутствия явных признаков такой политической воли. Во-вторых, из-за отмеченной выше длительности социалистического этапа истории страны и значительно более слабых, чем у ее западных соседей, модернизационных (демократических, рыночных) традиций. В-третьих, в силу геополитических и демографических особенностей России ~ гигантской территории, политэтнического состава населения, уникальной культурной гетерогенности. В условиях распада тоталитарной централизации эти особенности создают подчас непреодолимые трудности проведения на всей ее территории любого целенаправленного политического курса, не говоря уже о курсе реформаторском, обостряют межнациональные и межрелигиозные конфликты, противоречия между центром и регионами, еще более подрывающие перспективы модернизации.
Наконец, специфически российской особенностью является относительная (по сравнению с большинством других постсоциалистических стран) слабость экзогенных факторов модернизации. Во многом решающая роль этих факторов и в прошлой истории, и особенно в современных условиях является общим местом современной социологии социальных изменений. В России она значительно ослаблена традиционными для национального сознания изоляционизмом (идеология «особого русского пути») и отчуждением от Запада (сочетающимся с тяготением к западной модели, стремлением «догнать и перегнать»), а также ущемленным из-за распада Союза великодержавным комплексом, болезненной для национальной гордости внезапной утратой статуса сверхдержавы. Роль экзогенных факторов уменьшает и особое, недоверчиво-подозрительное отношение Запада к постсоветской России, в которой, несмотря на произошедшие в ней перемены (и частично из-за неопределенности возможных политических результатов этих перемен), он продолжает видеть ослабленную наследницу вчерашнего ядерного соперника. Российские и западные комплексы взаимно усиливают друг друга.
Все это свидетельствует о том, что в перспективах российской модернизации, если такие перспективы вообще существуют, доминирующую роль будут играть эндогенные факторы, весьма слабо представленные на макросоциальном и политическом уровне. Тем самым подтверждается сказанное выше: в перспективе одно из центральных мест должны занять процессы, происходящие на микроуровне ~ действия и взаимодействия индивидуальных акторов.
Если этот вывод верен, неизбежно возникает новый вопрос: в чем именно может состоять вклад индивидов в модернизационный процесс, каков механизм их влияния на социальные изменения? В поисках ответа имеет смысл обратиться к тем социологическим теориям, которые разрабатывают проблему индивидуальных акторов такого рода изменений. Важно, что, как отметила Н.Е. Тихонова, подход с «позиций актора» более адекватен российским условиям, чем подход с «позиций системы». В разработке методологических принципов подобного подхода существенную роль сыграли работы М. Крозье и Э. Фридберга, Т. Бернса и Э. Флэм, Э. Гидденса, П. Штомпки, М. Арчер, Н. Музелиса; к той же парадигме примыкает и рассмотренная выше концепция Р. Будона. Для наших целей нет необходимости рассматривать работы всех этих авторов, выделим лишь те их идеи, которые позволяют конкретизировать механизм взаимоотношений между индивидуальными акторами и социальной действительностью.
Особый теоретический интерес в этом плане представляет теория структурации Э. Гидденса и развернувшаяся вокруг нее дискуссия (работы М. Арчер, Н. Музелиса), а также теория «социального становления» П. Штомпки. Центральная идея Гидденса основана на том представлении, что структурные свойства социальных систем ~ это совокупность норм, «правил», которые регулируют жизнь общества как часть поведения индивидов; вне этих индивидов эти нормы и «правила» вообще не существуют. В своих действиях индивиды используют возможности, предоставляемые структурами, и, в то же время, этими действиями непреднамеренно их воспроизводят или трансформируют. В этом смысле и структуры, и акторы дуальны: первые представляют собой и средство, и результат индивидуальных действий, вторые ~ суть и продукты структур, и ресурсы для их построения. Дуальность структур лишает, с точки зрения Гидденса, смысла противопоставление объективного и субъективного: в структуре сливаются объективные социальные условия и результаты субъективной деятельности людей. Поскольку же структуры как некая особая, внешняя по отношению к индивидам, субстанция не существуют, а реален лишь процесс их воспроизводства и трансформации индивидами, Гидденс предлагает вообще отказаться от этого статического понятия и заменить его понятием «структурация», обозначающим данный процесс [79].
Важнейший методологический итог предпринятого Гидденсом переосмысления человеческой деятельности состоит в том, что любое действие индивида в обществе, т. е. по отношению к другим людям, следует рассматривать как структурообразующее, независимо от того, меняет ли оно что-либо в существующих отношениях или просто воспроизводит их. (Во избежание понятийной путаницы отметим, что речь в данном случае идет не о социальной структуре в узком смысле ~ как стратификации, делении общества на слои и группы, а о структуре как строении общества, определенном социальном порядке). В этом можно увидеть развитие парадигмы индивидуального действия Г. Зиммеля, который, например, даже простое подчинение людей власти рассматривал как действие подчинения, воспроизводящее данное властное отношение.
Определенные «крайности» теории Гидденса и, прежде всего, отрицание границ между объективными структурами и субъектом деятельности, вызвали возражения других социологов. Так, М. Арчер утверждала, что подобный подход не позволяет анализировать процесс взаимоотношений между конкретными структурами, уже существующими к началу данного действия актора, и этим действием; с этой целью она предложила ввести принцип «аналитического дуализма» ~ рассматривать структуры и акторов как отдельные объекты анализа [71, p. 141]. Полемизируя с Гидденсом, Н. Музелис настаивал на необходимости дифференцировать различные ситуации взаимодействия структур и акторов и обусловленных ими типов этого взаимодействия. На его характер влияет отношение акторов к существующим правилам: они могут принимать их за данность и осуществлять рутинную деятельность в соответствии с ними, или дистанцироваться от них и в этом случае либо, сознавая свое бессилие что-либо изменить, пассивно подчиняться им, либо, напротив, пытаться как-то трансформировать структуру. В двух последних случаях слияния структур и акторов не происходит, объективные структурные отношения реально противостоят субъекту. По мнению Музелиса, Гидденс недостаточно учитывает различия между отношениями микро- и макроуровня: на макроуровне, в масштабах «большого общества» действуют не индивидуальные, а коллективные акторы, например, социальные движения, часто дистанцирующиеся от структурных правил и стремящиеся изменить их. На отношения между акторами и структурами, подчеркивает Музелис, влияет также фактор социальной иерархии: его значение особенно велико в обществах «с бюрократизированным и иерархизированным социальным пространством, где люди не имеют возможности выбора в вертикально организованном социальном порядке» [85, p. 25~31, 166~167].
В целом критика концепции Гидденса не поколебала ее основной идеи, направленной против всех видов социального детерминизма, представляющего людей, по его выражению, в виде «структурных и культурных болванов». Человеческие действия, а не отделенные друг от друга структуры и люди-акторы, образуют социальную реальность в ее статическом и динамическом измерениях ~ таков основной смысл этой идеи. Ее практическое значение для социологии заключается в том, что именно совокупность этих действий следует рассматривать как центральный объект социологического анализа.
Вместе с тем, критика концепции Гидденса показала, что если в реальной жизни действительно происходит слияние структурных свойств и акторов, то анализ конкретного содержания действий невозможен без раздельного рассмотрения тех и других. Прежде всего потому, что отношения между состоянием социальной реальности в исходном пункте действия и по его завершении ~ иными словами, результаты действия ~ конкретны и неоднородны. Они могут сводиться к простому воспроизводству реальности, а могут и к ее большему или меньшему изменению. Эти результаты зависят от того, что конкретно представляет собой «слияние», как соотносится в нем простое повторение прежних шаблонов действий (которые, собственно, и называются иначе структурными свойствами) и элементов новизны. А отсюда следует, что социолог должен, с одной стороны, знать, в чем состоят эти шаблоны, а с другой, ~ как и почему актор вносит или не вносит в них изменения своим действием. Понятно, что такое знание особенно необходимо при изучении социальных изменений. Теория Гидденса, вкупе с ее критическим переосмыслением, позволяет выделить три отдельных «поля» анализа таких изменений: инновационное действие как таковое, используемые им структурные свойства действительности и импульсы к инновации, идущие от действующего субъекта.
Нельзя в то же время не видеть, что вывод о необходимости раздельного анализа всех этих «полей» не отвечает на вопрос, каким образом можно объединить все названные его направления в нечто целостное, понять социальное изменение именно как процесс слияния структурных свойств и свойств акторов. На мой взгляд, наиболее полный ответ на этот вопрос дает теория «социального становления» П. Штомпки.
В разработке своей теории польский социолог опирается на концепцию Гидденса, который, по его мнению, «по богатству и глубине детального анализа индивидуальных деятелей идет гораздо дальше любого другого автора в разгадке тайны деятельности». Он использует также критику этой концепции в теории морфогенеза М. Арчер и марксистскую теорию практики, в особенности идею К. Маркса о том, что обстоятельства создают людей в той же мере, в которой люди создают обстоятельства. Для проблемы, обсуждавшейся в споре Арчер с Гидденсом, он предлагает собственное «третье решение», суть которого состоит в следующем.
Во-первых, в теории Штомпки «уровни структуры в состоянии операций и агентов (т. е. акторов. ~ Г.Д.) в их действиях не будут ни аналитически разделяться (как у Арчер. ~ Г.Д.), ни взаимно сводиться друг к другу (как у Гидденса. ~ Г.Д.)». В действительности Штомпка разделяет эти уровни, но не в их процессуальном качестве (операций, действий), а как содержащиеся в структурах и индивидах предпосылки реального инновационного процесса. Уровень структур он определяет как «тотальность», подчеркивая тем самым их макросоциальный характер, а уровень акторов ~ как «индивидуальность», рассматривая его именно как индивидуальные свойства субъектов действия. Собственно же «третье решение», предлагаемое Штомпкой, состоит в выделении промежуточного третьего уровня, определяемого как реальность. Это понятие в общем используется в русле парадигмы Гидденса: реальный социальный процесс рассматривается как слияние или «встреча» «материала», поставляемого тотальными структурами и индивидами. Тотальность, реальность и индивидуальность образуют вертикальное членение диаграммы, формализующей концепцию Штомпки (см. табл. 1, с. 54).
Во-вторых, в самом процессе социального изменения Штомпка выделяет различные фазы или модусы, образующие горизонтальное членение диаграммы. Первая из них ~ потенциальность, ее образуют потенции изменений, заложенные как в свойствах структур и субъектов деятельности, так и на уровне реальности ~ самой деятельности. Ее Штомпка также определяет как нечто потенциальное (потенциальную реальность) ~ «актуализированный или проявившийся ...ряд способностей, диспозиций, тенденций», как «вынашивание» потенциальных возможностей для практики». Иначе говоря, деятельность в его понимании, отличающемся от общепринятого, ~ это своего рода совокупность эксплицитных, т. е. так или иначе проявившихся, наблюдаемых потенций ~ еще не изменений как таковых, но тенденций к изменениям, порожденных «встречей» макроструктурных и индивидуальных потенций. «По отношению к обоим уровням (тотальностей и индивидуальностей) она составляет новое, возникающее качество».
Следующую фазу процесса образует «актуальность» или действительность. На пути к этой фазе актуализации потенций происходит мобилизация субъектами деятельности их свойств, способствующих изменению, раскрытие соответствующих потенций структур, а на уровне реальности возникает «эвентуация» (событийность). Проще говоря, происходит некое социальное событие, обусловленное «сверху» и «снизу» (раскрытием потенций структур и мобилизацией потенций акторов), но «не сводимое ни к одному из (этих) процессов и представляющее собой новое качество». Эвентуация, подчеркивает Штомпка «лишь возможна, иногда вероятна, но никогда не необходима».
На фазе действительности деятельность, воплотившись в событии, трансформируется в практику, мобилизованные свойства ее субъектов ~ в индивидуальные действия, а раскрывшиеся свойства тотальных структур ~ в новую фазу функционирования, «достигнутую обществом в широком смысле», т. е. в определенные макросоциальные процессы (Штомпка называет их «оперированием»). Практика обусловлена «сверху» и «снизу» функционированием структур и действиями индивидов, но не сводима ни к тем, ни к другим и представляет собой новое качество. Хотя Штомпка специально этого не поясняет, очевидно, практика рассматривается в данном случае как социальный феномен, представляющий собой синтез индивидуальных действий (агрегированные индивидуальные действия, по Будону) и макроструктурных изменений.
На фазе действительности социальное изменение не завершается, дальнейшая его динамика реализуется, по Штомпке, через обратные связи от этой фазы к фазе потенциальности. Структуры преобразуются в ходе собственного оперирования, а акторы ~ в ходе собственных действий, деятельность значительно преобразуется практикой (эти обратные связи отмечены на диаграмме стрелками). В результате в завершающем пункте процесса мы имеем дело с обновленными и, следовательно, обладающими новыми потенциями акторами, структурами и деятельностью [68, c. 268~276; 90].
Не претендуя здесь на критический анализ теории Штомпки и ее понятийного аппарата, отметим некоторые содержащиеся в ней методологические ориентиры, весьма важные, на наш взгляд, для анализа российской модернизации. Учитывая, что в России речь идет лишь о ранней или даже эмбриональной фазе этого процесса, к числу таких ориентиров принадлежит прежде всего выделяемая им фаза потенциальности. Анализ потенций модернизации, существующих в российском социуме, и конкретных форм их проявления ~ имплицитных и эксплицитных, развившихся до стадии воплощающих модернизацию социальных событий или наблюдаемых лишь в виде некоторых тенденций деятельности, ~ приобретает в современном российском контексте первостепенное значение.
Таблица 1
Модель «социального становления (о П. Штомпке [68, c. 276])»
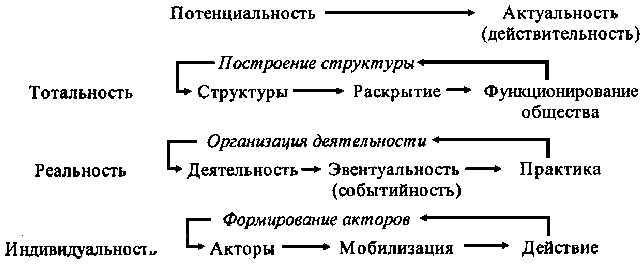
Не менее важно в этом контексте вертикальное членение потенциальности и действительности, предлагаемое Штомпкой: оно акцентирует, что необходим специальный анализ, с одной стороны, модернизационных потенций индивидов, находящихся в различных социальных ситуациях, и макросоциальных институциональных структур, с другой ~ их «слияния», т. е. использования индивидами структурных возможностей на уровне конкретных форм деятельности. Такой анализ, разумеется, потребует раскрытия самого смысла понятия «модернизационные потенции» и всех других связанных с ним логически понятий теории (мобилизация, эвентуализация и т.д.) применительно именно к российской ситуации.
Перечислим коротко основные принципы и направления исследования гипотетической модернизационной роли российского среднего класса, вытекающие из изложенных соображений:
- выделение «модернизации человека» в качестве главного содержания данного этапа российской модернизации и соответственно действующего индивида в качестве единицы анализа;
- исследование инновационного вектора ментальности и поведения индивидов на потенциальном (имплицитном и эксплицитном) и реальном уровнях;
- анализ обусловленности уровня этого вектора индивидуально-личностным потенциалом, индивидуальной социальной ситуацией и макросоциальной средой; исследование механизма их взаимодействия («использования» индивидами объективных факторов);
- анализ проблемы агрегирования индивидуальных действий и их инновационного социального (структурообразующего) эффекта.
Эти принципы и направления определяют состав эмпирической базы исследования. Ее образует, с одной стороны, весь доступный социологический материал, включая опросы общественного мнения, относящиеся к данной теме, и рассмотренные выше эмпирические исследования российского среднего класса. С другой стороны, выбор индивидуального актора в качестве центральной единицы анализа обусловил значительную роль в данном исследовании углубленных интервью. Его минусы и плюсы хорошо известны социологам: не обладая репрезентативностью массовых опросов, интервью дают гораздо более богатое и верное отражение как реальных жизненных обстоятельств, так и мыслей, мотивов, переживаний людей, чем сформулированные социологами готовые ответы на вопросы «закрытых» анкет. Понятно, что это преимущество приобретает решающее значение, если мы исследуем именно индивидуальный уровень социальных процессов.
Всего в работе использовано три равновеликих группы углубленных интервью, полученных от шестидесяти респондентов. Первые двадцать проводились ВЦИОМ в конце 1997 года в Москве и Саратове, причем респонденты отбирались, насколько это позволяли небольшие размеры выборки, с учетом принципа репрезентативности городского населения. Поскольку подавляющее большинство из них причисляло себя к средним позициям социальной иерархии (по десятибалльной шкале), их можно отнести к «среднему классу» ~ в том широком смысле, в каком это понятие используется в ряде отечественных работ. Выборка имеет разнородный социально-профессиональный и демографический состав: в ней поровну представлены мужчины и женщины; возраст респондентов от 18 до 60 лет; среди них рабочие, представители научно-технической интеллигенции, врачи, предприниматели, преподаватель, банковский бухгалтер, менеджер, библиотекарь, государственная служащая, продавщица, офицер, студенты, пенсионерка из рабочих. Данные этих интервью использованы и частично опубликованы в другой моей работе [17].
Другие двадцать интервью были проведены в 1999 году социологами Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) специально для данного исследования. Выборка для них формировалась по другому принципу. В нее были включены жители Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода из числа респондентов ФОМ, относимых специалистами этого Центра к категории «оптимистов». Основанием такой идентификации служит положительный ответ респондента на вопрос «Сможете ли Вы в ближайшие год-два жить лучше, чем сегодня?» Я полагал, что именно среди «оптимистов» скорее всего можно найти людей, уверенных в своих силах и готовых занять активную жизненную позицию ~ потенциальных или реальных участников модернизационного процесса. По демографическим характеристикам эта выборка не отличается от предыдущей, но ее социально-профессиональный состав существенно иной. В ней меньше рабочих и предпринимателей, но больше менеджеров и особенно научных работников: они составляют самую большую группу респондентов.
В организации еще одной серии из двадцати интервью я не участвовал. Они были опубликованы социологами из Тюмени и представляют собой «рефлективные автобиографии» выдающихся жителей этого города: юристов, директоров заводов, руководителей вузов, научных центров и СМИ, высокопоставленных региональных администраторов, организаторов народного образования, бизнесменов, политиков, представителей творческой интеллигенции [4]. В сущности, все они, в отличие от респондентов из предыдущих выборок, относятся к высшему слою среднего класса или весьма близки к нему.
Хотелось бы выразить искреннюю благодарность всем, кто помог мне в организации и проведении полевых исследований: Б.В. Дубину, Н.А. Зоркой, Ю.А. Леваде, А.А. Ослону, Е.С. Петренко.
Глава I
ИДЕНТИЧНОСТЬ РОССИЙСКОГО СРЕДНЕГО КЛАССА
СОЦИАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В ПОСТСОВЕТСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Во вводной главе книги было сформулировано понятие «среднего класса» как аналитической категории, используемой для определенных познавательных, идеологических и политических целей. Это отнюдь не означает, что данная категория представляет собой некую сциентистскую или идеологическую фикцию, артефакт, имеющий какой-то смысл лишь в языке и мышлении специалистов-социологов, политиков и политических публицистов. Французский психолог С. Московиси в теории социальных представлений убедительно показал, что в современную эпоху понятия и знания, выработанные наукой (или претендующей на научность идеологией) часто становятся первоисточником представлений обыденного, «практического» сознания; они ориентируют и регулируют повседневную жизнь людей, не особенно озабоченных теми «профессиональными» проблемами, которые первоначально стимулировали появление таких понятий.
Согласно теории Московиси, носители обыденного сознания не просто усваивают научные и идеологические категории в готовом виде, но трансформируют их в соответствии с собственными потребностями. При этом они производят операцию «конкретизации абстракций»: воплощают их в образы и наполняют определенным символическим смыслом, ориентирующим практическое поведение субъектов сознани (ория социальных представлений изложена в многочисленных работах С.\~Московиси и его последователей. См., например, [87] В отечественной литературе ей посвящена работа }{\plain \i\f1 А.И.\~Донцова и}{\plain \f1 }{\plain \i\f1 Т.П.\~Емельяновой }{\plain \f1 [21].)я. Можно полагать, что реальное значение понятия «средний класс» в российском общественном сознании и, следовательно, в жизненной практике россиян определяется тем, в какой мере оно выступает в качестве социального представления, в рамках которого, по выражению Московиси, происходит слияние субъекта и объекта, творческое «конструирование реальности», «материализация мысли» [87, p. 364, 357].
С этой точки зрения проблема идентичности среднего класса не может быть сведена к набору статистических данных о доходах, профессиональных и тому подобных характеристиках данного социального образования, подтверждающих его специфику по сравнению как с другими группами российского общества, так и со средним классом в других странах. Такие данные, несомненно, важны, но центральным моментом идентичности среднего класса следует полагать характеризующий индивидов этой группы комплекс представлений о социальной реальности и их месте в ней ~ представлений, регулирующих их жизненную активность и специфичных именно для данной страты, в той или иной мере отличающих ее от остальных слоев общества. Можно полагать, что мера этой специфичности, «особости» социальных представлений людей, аналитически относимых к среднему классу, т.е. четкость или, напротив, расплывчатость граней, отделяющих их по данному признаку от остального общества, позволит судить об уровне его, среднего класса, реальной идентичности.
Подчеркнем, что идентичность в этом понимании не совпадает с самоидентификацией, хотя и включает ее. Любой человек в той или иной форме осознает свой статус, свое место в обществе, однако совсем не обязательно, что он четко относит себя к определенной социальной категории, тем более к такой, которая восходит к научной теории стратификации, чаще всего известной лишь ограниченному кругу. Правда, большинство российских респондентов так или иначе отвечает на вопросы социологов, предлагающих им отнести себя к определенной вертикальной страте, представляемой как ступенька социальной лестницы (чаще всего по десятибалльной шкале). Сам по себе этот факт достаточно важен: как отмечает Л.А. Хахулина, «если в 1991 г. более 1/3 опрошенных затруднялись отнести себя к какому-либо слою или вообще отрицали наличие в обществе такого деления, то уже к 1996 г. самоидентификация с данными социальными категориями для подавляющего большинства не встречает затруднений». «Это является свидетельством того, ~ справедливо замечает исследовательница, ~ что новая идентификационная система все больше укореняется в массовом сознании, а само понятие «средний класс» становится более привычным» [63, c. 25, 26].
Нельзя в то же время не видеть, что этот сдвиг в способах самоидентификации, привыкание к новым стратификационным категориям еще ничего не говорит о реальной психологической значимости этих категорий в структуре самосознания, в социальной идентичности россиян. Респондент может отнести себя к той или иной страте в ситуации диалога с социологом, но это не значит, что проблема такого самоопределения существовала в его сознании до того, как собеседник поставил ее перед ним и предложил возможные варианты ответа. Иными словами, вербальное суждение о собственной стратификационной принадлежности не обязательно означает, что респондент действительно осмысливает свое социальное положение на основе предложенного метода.
В наших интервью нередко возникали ситуации, когда вопрос о том, к какой из десяти ступеней относит себя респондент, был для него явно новым и ответ он давал экспромтом и не особенно уверенно, будучи побуждаем к этому интервьюером. В других случаях чувствовалось, что респондент ощущает проблему самоидентификации, в том числе со средним классом как весьма существенную для себя, и готов к активной рефлексии по этой проблеме. И, наконец, особняком в этом плане стоят «рефлективные биографии», опубликованные тюменскими социологами: в данном случае возбуждение такой активной рефлексии об идентичности среднего класса было центральной задачей всего исследования, а культурный и интеллектуальный уровень респондентов (городской «элиты») позволил вполне реализовать эту цель. Таким образом, в зависимости от культурных и интеллектуально-психологических характеристик субъектов сознания, продуманная «стратификационная» самоидентификация может играть совершенно неодинаковую роль в представлениях, отражающих их социальную идентичность.
В то же время вербальная самоидентификация с одной из «средних» страт, очевидно, очень часто осуществляется по мотивам, имеющим весьма косвенное отношение к такого рода идентичности. Об этих мотивах будет сказано несколько ниже, но независимо от них важно иметь в виду, что по некоторым данным удельный вес таких самоидентификаций значительно превышает любые мыслимые размеры среднего класса. Так, в исследовании Бюро экономического анализа (БЭА) отмечается, что по критерию самоидентифиции к среднему классу относится до 60% населения, в то время как по совокупности признаков, позволяющих выделить реальный, протосредний класс, он охватывает не более 25% [60, c. 40, 41]. Исследователи БЭА приходят к заключению, что «в обществе переходного типа основания самоидентификации не сливаются в некоторый комплексный критерий среднего класса, как это описано социальной теорией применительно к обществам западного типа» [60, с. 19].
Для того состояния общества, которое широко принято обозначать как «переходное», такую ситуацию можно признать вполне естественной. Социальная структура, присущая этому обществу до начала «перехода», в значительной мере разрушена, новая еще только складывается. Черты этой новой структуры еще не обладают той определенностью, которая могла бы дать людям надежные когнитивные ориентиры для идентификации с той или иной большой социальной группой. Те, кто принадлежит к поколениям, испытавшим этот сдвиг на собственном опыте, могут, в зависимости от собственной конкретной ситуации, или инерционно воспроизводить старые представления о своем социальном статусе, или пытаться выработать новую социальную самоидентификацию, или колебаться между этими двумя тенденциями. Те, кто вступил в самостоятельную жизнь уже в постсоциалистический период, более свободны от таких колебаний, ориентируются в своем самоопределении на сегодняшние социальные реалии, но и для них эти реалии предстают в виде хаотичного, нестабильного, слабо структурированного мира, в котором отсутствуют устойчивые, ясно осознаваемые факторы, определяющие социальную позицию человека.
«Социальная идентификация личности в нестабильном, кризисном обществе, ~ отмечает В.А. Ядов, ~ испытывает неожиданные непривычные воздействия... Происходит сдвиг от прозрачной ясности социальных идентификаций советского типа ... к групповым солидарностям, где решительно все амбивалентно, неустойчиво, лишено какого бы то ни было определенного вектора» [70, c. 171].
Для «переходного» общества характерно резкое усиление индивидуализации личных судеб, ослабление их зависимости от принадлежности людей к большим социально-профессиональным формализованным группам. Тот факт, что человек является специалистом с высшим образованием, квалифицированным рабочим, администратором или рядовым служащим, сам по себе не определяет ни уровень его дохода, ни реальный социальный статус, ни стабильность его материального и социального положения. Как говорит о различии между прежней и нынешней ситуациями одна из наших респонденток, госслужащая из Саратова, раньше «все шло поэтапно: ...институт, аспирантура, работа; если девушка ~ выйти замуж удачно, получить какое-то определенное положение и чтобы материальная была обеспеченность, иметь там машину, квартиру, понимаете, все шло четко, у всех в принципе одинаково... [Теперь] надо проявлять инициативу, двигаться, двигаться». И далее: «Кому как повезет... тут ведь дело случая, я считаю, везения» (Интервью осени 1997 года).
Индивидуальная инициатива и индивидуальное везение превращаются в решающие факторы, определяющие социальную позицию постсоветского человека. По словам социолога И.В. Мостовой, «преобразование социальной структуры ...сопровождается разрушением одних и возникновением других оснований группового самопричисления... Взрывное изменение ориентаций общественной культуры и переход от модели социальной безопасности к модели социальной конкуренции не могут закрепиться без смены механизмов выживания» [39, c. 91, 92]. Понятно, что в этих условиях социальная идентичность индивида теряет былые свойства «внешней» объективной данности, выступающей в виде социального происхождения, полученного образования, формальной профессии и т.д. Она становится чем-то приобретаемым или заново подтверждаемым (в результате собственных усилий или счастливого совпадения обстоятельств) и чаще всего ничем не гарантированным, нуждающимся в защите достоянием. Эта идентичность является, с другой стороны, показателем меры, в какой постсоветский человек решает главную свою проблему ~ проблему адаптации к социально-экономическим условиям «дикого капитализма», в которых отсутствуют какие-либо институциональные гарантии его материального положения и даже простого выживания. Как справедливо отмечает социолог Л.В. Корель, «современная общественная ситуация в России характеризуется колоссальной инверсией базовых принципов социальной организации общества, вовлекшей буквально все слои населения в адаптивный...и дезадаптивный процессы» [30, с. 6, 7].
Социальная идентичность постсоветского человека ~ это не столько самоопределение им своего устойчивого места в обществе, сколько отражение опыта и определение возможных перспектив индивидуального адаптационного процесса. Именно поэтому такая идентичность ~ гораздо более сложное образование, чем самоотнесение к какой-либо страте или группе: она включает совокупность представлений и социальных установок (аттитюдов), отражающих оценку индивидом своих возможностей активного или пассивного приспособления к наличным социальным условиям, его восходящей или нисходящей мобильности, либо стабилизации своей ситуации в рамках этих условий. В общем, эта идентичность фиксирует не столько место человека в социальном пространстве, сколько возможности его перемещения в этом пространстве, оценить которые можно, лишь сопоставляя их с возможностями других индивидов.
Подобные свойства постсоветской идентичности предполагают необходимость ее анализа на основе методологии, адекватной как неустойчивому, «процессуальному» состоянию социально-структурной реальности, так и взаимосвязанным с этим состоянием психологическим механизмам адаптационного самоопределения (самоопределения через адаптацию). Такой адекватностью обладают, на наш взгляд, социологические и психологические теории, исследующие зависимость аттитюдов и поведения индивидов не просто от свойств объективной макро- или микроситуации, но от специфических когнитивных процессов субъективной оценки этой ситуации в ее отношении к жизненной практике индивида. Эти процессы могут быть сознательными и подсознательными, носить как индивидуально-психологический, так и социально-психологический характер, они вообще ~ органический компонент психической жизни человека, однако в ситуации максимальной неопределенности, отличающей общества «переходного типа», их роль значительно больше, чем в относительно стабильных социальных условиях. Ибо в таких относительно стабильных условиях информация о ситуации обладает доступностью и однозначностью, в той или иной мере освобождающей людей от необходимости ее самостоятельной оценки и «анализа», и соответствующий когнитивный процесс выступает как бы в свернутом виде ~ часто в виде усвоения готовых, повседневно подтверждаемых опытом представлений. В ситуации же неопределенной и нестабильной потребность в таком «анализе», а, следовательно, его значение в выработке аттитюдов и поведения индивидов резко возрастают.
Теории, исследующие подобные когнитивно-оценочные процессы, объединяет ориентация, которую можно назвать когнитивистской парадигмой человеческого поведения. Они возникли и развивались в психологии, преимущественно в связи с исследованием механизмов мотивации. В трудах К. Левина и Д. МакКлелланда была доказана зависимость силы и интенсивности человеческих потребностей от оценки субъектом степени доступности объектов (величины «барьеров» или «дистанций», отделяющих предмет потребности от субъекта) [83, 84; ср.: 72].
В отечественной литературе в 1970-х годах предпринимались попытки интегрировать эти когнитивные механизмы в общую теорию человеческих потребностей, и было предложено понятие «оценки возможностей», интерпретируемое как фактор массового политического сознания и поведения [15, 16, 64]. Та же, в сущности, когнитивистская парадигма лежит в основе известной теории относительной депривации английского социолога У. Рансимена. Он исследовал зависимость уровня социального недовольства и социальных ожиданий массовых слоев от той референтной ситуации (своей собственной в прошлом или другой, находящейся в их когнитивном горизонте группы), с которой они сопоставляют свое положение [88]. Однако наиболее полно в плане социологической теории эта парадигма развита в концепции «хабитуса» французского социолога П. Бурдье.
По определению Бурдье, хабитус ~ это «система схем восприятия и оценивания, ...когнитивные и развивающиеся структуры, которые агенты получают в ходе их продолжительного опыта в какой-то позиции в социальном мире. Хабитус есть одновременно система схем производства практик и система схем восприятия и оценивания практик. В обоих случаях эти операции выражают социальную позицию, в которой он был сформирован. Вследствие этого хабитус производит практики и представления, поддающиеся классификации и объективно дифференцированные, но они воспринимаются непосредственно как таковые только теми агентами, которые владеют кодом, схемами классификации, необходимыми для понимания их социального смысла» [10, с. 193, 194].
В другой работе тот же автор, раскрывая аналитическое значение предлагаемого им концепта, утверждает, что «хабитус позволяет установить понятное и необходимое отношение между практиками и ситуацией, смысл которой он производит в зависимости от категорий восприятия и оценивания, которые сами производятся объективно наблюдаемыми условиями» [75, p. 112]. Эти категории (или схемы) восприятия и оценивания позволяют субъекту (агенту) определить возможности действия (практик), которые предоставляет ему его социальная ситуация (позиция) во всех сферах его жизни, и психологически усвоить соответствующие практики как естественные, необходимые и «устраивающие» субъекта, эмоционально комфортные. Бурдье характеризует этот механизм как находящийся, по его словам, в основе его представления о действии, как «подгонку диспозиций к позиции, ожиданий к шансам ~ ...виноград-то зелен»; хабитус ~ это «необходимость, ставшая добродетелью», он «производит стратегии, которые оказываются объективно подогнанными к ситуации». Причем, как подчеркивает Бурдье, это производство стратегий отнюдь не является продуктом рационального расчета, для которого «почти никогда не бывает условий» вследствие ограниченности времени и неполноты информации: в его основании лежит не разум, но «интуиция практического чувства» [10, с. 23, 24].
Идеи Бурдье о зависимости диспозиций (или аттитюдов) и практики людей от оценки ими их социального положения (позиций), о сущности этого когнитивного процесса как психологической и практической адаптации к наличной ситуации представляют первостепенный интерес для анализа механизмов и природы социальной идентичности постсоветского человека. Сам Бурдье использовал эти идеи преимущественно для анализа реалий относительно устойчивого в социально-структурном плане западного (французского) общества. В центре его внимания ~ проблемы формирования и воспроизводства стандартов повседневной практики, социальной обусловленности стиля жизни, вкусов, суждений, эстетических потребностей, материального и культурного потребления, в различии которых выражаются объективные социальные различия и их субъективное восприятие («дистинкция» ~ различение ~ заглавие одного из основных трудов Бурдье). Применительно к условиям слабо структурированного, еще только формирующегося «переходного» общества, его метод может быть использован для несколько иной цели. А именно для анализа трансформаций в социальной идентичности людей как реакции на радикально меняющуюся и неопределенную действительность, в которой им приходится не столько фиксировать и символизировать в собственных представлениях и практике свои объективно данные социальные позиции, сколько формировать их, осуществляя выбор между различными стратегиями адаптации.
Можно полагать, что механизмы хабитуса, описанные Бурдье, обслуживают эти процессы не в меньшей мере, чем изученные им практики в сфере стиля жизни и культуры. И вместе с тем, «коды, схемы классификаций», классификационные категории, которые применяются людьми, по его наблюдению, для осмысления собственной социальной позиции, доступны, как и в описанной им ситуации, только части индивидов. Но, независимо от доли людей, способных в той или иной мере применять эти коды, для нас важна их взаимосвязь с хабитусом. С этой точки зрения индивидуальные, выполняющие роль таких кодов социально-стратификационные идентификации, выявляемые в интервью и опросах, могут служить показателем более значимых, чем просто выбор «своей» иерархической позиции, диспозиций и поведенческих ориентаций индивида. Эти идентификации, представляют собой символизацию социального расслоения, сопряженную, по удачному определению И.В. Мостовой, «с разметкой социального пространства в соответствии с новыми (в нашем случае рыночными) «правилами игры», т.е. теми нормами, ценностями, поведенческими образцами, которые становятся приемлемыми для критической массы населения, включенного в социальные связи» [39, с. 101]. Поэтому имеет смысл попытаться понять смысл этих самоидентификаций именно в возможном соотношении с такого рода индивидуальными стратегиями.
В дальнейшем изложении мы рассмотрим это соотношение на конкретном материале наших интервью.
ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТЬ САМОИДЕНТИФИКАЦИЙ
Приведем вначале ответы респондентов на вопрос, к какой ступеньке социальной лестницы (из десяти возможных) или социальной категории они себя относят.
Женщина-врач, 28 лет, Москва. Респондентка четко различает свой «объективный», измеряемый уровнем дохода, и «субъективный» статус: «Если минимальный прожиточный уровень по Москве, скажем, 800 тыс. (интервью относится к осени 1997 года. ~ Г.Д.), а ставка у врача 460 тыс., это где-то первая ступень этой лестницы. А по самоощущению ~ может, на четвертой, пятой, ближе к середине».
Врач, заведующий отделением больницы, 48 лет, Саратов. Крайне не удовлетворен своей «ниже, чем нищенской» зарплатой, но помещает себя в самую «середину» иерархической лестницы ~ по его словам, в соответствии с должностью.
Квалифицированный рабочий (наладчик) ВПК, 51 год, Саратов. Свое положение на социальной лестнице считает близким к среднему (четвертое место по десятибальной шкале). Ниже него ~ бомжи, безработные, «те, кто ходят в оранжевых жилетах, убирают улицы ~ это частично занятые». Выше ~ коммерсанты, в том числе мелкие: они более независимы, «а я человек, зависимый ... от начальства». На свой жизненный уровень не жалуется: ему живется «более или менее нормально».
Пенсионерка, в прошлом работница Атоммаша, 56 лет, Саратов. Относит себя к средней (пятой) ступеньке социальной лестницы. Эта самоидентификация явно не связана с очень тяжелым материальным положением респондентки. «Лишь бы не сойти с ума, ~ говорит она о себе, ~ потому что иногда ложишься спать и начинаешь думать: деньги, деньги, где их взять?»
Продавщица коммерческого магазина, 25 лет, Москва. Относит себя к третьей-четвертой ступенькам социальной лестницы («до пятой не дотягиваю»). Критерии этой самоидентификации ~ с одной стороны, зарплата, на которую «можно как-то жить», с другой, ~ неопределенность жизненных перспектив, отсутствие «уверенности в завтрашнем дне».
Рабочий-маляр с высшим техническим образованием, 29 лет, Москва. Один из немногих наших респондентов, относящий себя к низшей стратификационной ступени. Критерий этой самоидентификации ~ не материальный, но социально-статусный: он вербализуется респондентом как отсутствие независимости; в действительности, очевидно, имеет значение и несоответствие между полученным образованием и профессиональной ситуацией.
Высококвалифицированный рабочий-типографщик, 39 лет, Москва. Относит себя к третьей ступени. Основания: невысокая зарплата (около миллиона рублей в 1997 году), ограниченность жизненных горизонтов простым выживанием («я вынужден всю энергию, все здоровье тратить на хлеб насущный»), невозможность самореализации.
Мелкий предприниматель, по образованию юрист, 40 лет, Саратов. Самоидентификация ~ четвертая ступень. Респондент ассоциирует эту среднюю социальную позицию, с одной стороны, с хорошим материальным положением, независимостью, возможностями самореализации («я набираю себе хлопот, забот, чтобы было интересное дело»). С другой, ~ с неурегулированностью правовой ситуации малого бизнеса, зависимостью от произвола чиновников, а также с неполноценностью моральной легитимности частного предпринимательства в постсоветском социуме. Респондент интерпретирует эту неполноценность, жалуясь на внутреннюю раздвоенность между необходимостью жить ради денег вкупе с моральными компромиссами, к которым вынуждает такая жизнь, и собственными духовными запросами, значимостью для него проблемы «смысла жизни».
Мелкий предприниматель, имеет высшее техническое образование, 38 лет, Москва. Считает себя «несколько выше средней» ступени социальной лестницы. Самоанализ собственной социальной ситуации близок тому, который ~ правда, в более развернутой, артикулированной форме ~ дает гуманитарно образованный саратовский бизнесмен. Она также ассоциируется одновременно со свободой, достатком и с зависимостью от «государственного рэкета», негативными моральными аспектами предпринимательства (для предпринимателя-москвича это ~ необходимость «водить компанию» с чуждыми и неприятными ему людьми). А также с неустойчивостью и узостью возможностей малого бизнеса в условиях раздела рынка между более крупными, в том числе криминальными коммерческими структурами.
Автослесарь с высшим техническим образованием, 29 лет, Москва. Относит себя к относительно низкой ~ третьей ~ ступени социальной лестницы. Эта идентификация основана не на материальных (профессия респондента обеспечивает ему, по его собственной оценке, хороший доход), но на формально-статусных критериях и выражает определенную личностную жизненную позицию: неприятие гонки за карьерой, обогащением, установку типа «жить в свое удовольствие». «Я не вижу смысла, ~ говорит он, ~ рваться куда-то выше, зарабатывать деньги, власть, ... несмотря на образование, я никуда не рвусь, меня устраивает». Самым важным из прав человека считает для себя свободу ~ «остальное все так».
Женщина-бухгалтер в банке, высшее экономическое образование, 38 лет, Москва. Относит себя к седьмой позиции десятибальной социальной шкалы. Относительно высокий уровень самоидентификации, очевидно, основан на критерии дохода и благоприятной ситуации на рынке труда (интервью проводилось до августовского кризиса 1998 года).
Женщина-менеджер крупной фирмы по торговле морожеными продуктами, окончила Библиотечный институт, 28 лет, Москва. Относит себя к шестой-седьмой ступеньке статусной лестницы, исходя прежде всего из уровня зарплаты, но также и из психологического ощущения надежности собственного социального положения («общего состояния»).
Преподавательница английского языка в «привилегированном» вузе, 46 лет, Москва. Самоидентификация: четвертая-пятая позиция («немного ниже середины»), которую она отождествляет с «низшим средним классом». Основания: относительно высокая зарплата («достаточно высокая» по сравнению с преподавателями, работающими в обычных институтах) плюс профессиональный статус: возможность самореализации в труде.
Женщина-библиограф публичной библиотеки, 48 лет, Москва. Самоидентификация: одна из низших ступеней социальной лестницы («к среднему классу я сегодня, к сожалению, не отношусь»). Основание ~ низкий уровень зарплаты, так как работой своей респондентка удовлетворена, относится к ней творчески. «Мы все (работники библиотеки), ~ говорит она, ~ получаем, конечно, очень мало и сетуем на жизнь за то, что мы за наши знания, за то, что мы отдаем людям, получаем гроши».
Научный сотрудник технического института, кандидат наук, 60 лет, Москва. Один из немногих респондентов, отвергающих сам принцип самоидентификации по месту в социальной иерархии. Считает значимым критерием социальной дифференциации только уровень духовного развития и сознательной общественной активности людей (сам он ~ активный общественник, демократ, был лидером «Демократической России» в одном из районов Москвы). «Элитным» слоем считает интеллигенцию, которую выделяет не по профессиональным и образовательным признакам, но по обозначенным выше критериям сознания и роли в общественной жизни.
Старший научный сотрудник Института ядерной физики, кандидат наук, 48 лет, Санкт-Петербург. Четко различает «объективный», материальный статус и профессиональный, которому, по его словам, соответствует его самоощущение. По первой градации относит себя к низшему среднему классу или к четвертой-пятой ступенькам, по второй ~ к «немного выше среднего научному классу».
Женщина-администратор продовольственного магазина, высшее образование, 34 года, Санкт-Петербург. Самоидентификация ~ шестое место на десятибальной шкале, основание ~ уровень дохода на члена семьи (состоящей всего из двух человек ~ ее самой и дочери-школьницы). Свое социально-профессиональное положение оценивает как «что-то посерединке».
Женщина-стоматолог, помощник врача в поликлинике, образование высшее, 24 года, Санкт-Петербург. Самоидентификация: шестая-седьмая ступенька, основание ~ уровень дохода на члена семьи (живет в состоятельной родительской семье). Считает, что до кризиса августа 1998 года семья относилась к «классическому среднему классу», но «и сейчас (осенью 1999 года. ~ Г.Д.) нельзя сказать, что мы бедные или в чем-то себе сильно отказываем ...по большому счету нам хватает».
Научный работник-эколог, высшее образование, 29 лет, Санкт-Петербург. Самоидентификация: «наверно, до среднего класса по доходам (около 1 000 руб. на члена семьи. ~ Г.Д.) я не дотягиваю, так и сформулирую: чуть ниже среднего класса. По шкале около четверки».
Пенсионер, в прошлом инженер-металлург, рабочий, работает в школе посудомойкой, 52 года, Санкт-Петербург. Самоидентификация: «ниже среднего, третье-четвертое место», «профессионал», «технический работник».
Учительница рисования в дорогой частной школе, закончила Педагогический институт, художница, 27 лет, Москва. Самоидентификация по десятибальной шкале ~ четвертая ступень. Основана не на уровне дохода (относительно высокого ~ 2 200 руб. на члена семьи), но на уровне «уважения общества» к ее социально-профессиональной группе («кругу»).
Слесарь-ремонтник (основная работа) и художник, среднетехническое образование: строительный техникум и курсы дизайна, ранее работал дизайнером по товарам народного потребления, 47 лет, Нижний Новгород. Самоидентификация: третья-четвертая ступенька, социально-профессиональная самоидентификация: «простой рабочий человек».
Женщина-микробиолог, заведующая лабораторией института, доктор наук, 60 лет, Москва. Самоидентификация ~ восьмое место. Основана отчасти на относительно высоком доходе (в момент опроса 300 долларов ежемесячно), но главным образом ~ на самооценке своего положения в научном сообществе (специалист с мировым именем по дифтериту).
Инженер-системотехник, специалист по информационному обеспечению в Центральном банке, руководитель группы, 52 года, Москва. Самоидентификация: «где-то в середине» ~ между пятой и шестой ступенями. Основание: уровень дохода, а также «мировоззрение, психический склад» («в элите не хотел бы быть, это точно. В нищих ~ тоже»). Социально-профессиональная идентификация: «техническая интеллигенция».
Менеджер по часовой технике, высшее техническое образование, 27 лет, Нижний Новгород. Самоидентификация: четвертый слой. Основание: доход (300~400 долларов в месяц, которых «катастрофически не хватает») и стиль жизни (или стратегия) ~ к этому слою, по определению респондента, относятся «люди, которые в принципе задумываются на будущий день, но большую часть жизни живут одним днем. Как бы планы на будущее есть, но реально только на ближайший год». Социально-профессиональная идентификация: «инженерно-технический работник».
Мелкий предприниматель в розничной торговле, высшее техническое образование, 29 лет, Москва. Самоидентификация: пятая ступенька «посередине где-то». Основание ~ уровень жизни (500 долларов в месяц на члена семьи). Уровень образования, по мнению респондента, теперь потерял свое значение. Социально-профессиональная самоидентификация ~ предприниматель.
Научный работник-химик, доктор наук, заведующий отделом в академическом институте, 62 года, Москва. Разделяет «формальную» идентификацию по уровню дохода и «по другому ощущению», под которым, очевидно, имеет в виду характер выполняемой работы и удовлетворенность ее содержанием. По первой градации (доход на члена семьи ~ 500~600 руб. в месяц) относит себя к «самой низшей» ступени, по второй ~ к одной из верхних ~ восьмой-девятой. Социально-профессиональная самоидентификация ~ «научная, или творческая, интеллигенция».
Финансовый директор финансово-промышленного концерна, образование среднетехническое и незаконченное высшее, 28 лет, Нижний Новгород. Самоидентификация: пятая ступенька и средний класс, который респондент определяет так: «...белые воротнички, которые вынуждены работать, чтобы заработать себе деньги».
Теплофизик, старший научный сотрудник академического института, высшее образование, 43 года, Москва. Самоидентификация ~ «где-то в середине». Респондент определяет ее без особой уверенности, так как не знает точно, какими критериями следует руководствоваться: успеха, дохода или показателем положения человека в рамках «российской модели». Сам же он предпочитает американскую модель успеха, который означает, по его мнению, профессиональные достижения, материальную обеспеченность и «возможность заниматься тем, чем хочешь».
Теплофизик, старший научный сотрудник академического института, 53 года, Москва. Относит себя по «совокупному критерию» к шестой-седьмой ступеньке социальной лестницы (доход в семье 250 долларов в месяц на человека) и к научно-технической интеллигенции.
Женщина, заведующая отделом кадров в научно-исследовательском институте и внештатный агент туристической фирмы, образование высшее техническое, 46 лет, Нижний Новгород. Относит себя к третьей-четвертой ступени социальной лестницы по критерию «возможности приобретения того или иного товара» и к группе средних служащих, которую, по ее словам, отличает уровень жизни («роскоши нет, но и нищеты тоже нет») и культура поведения.
Женщина-врач, доктор наук, главный научный сотрудник, 60 лет, Москва. К определенной ступени социальной лестницы отнести себя не может, так как, по ее представлениям, эти ступени как-то связаны с «эгоистическими интересами к деньгам или власти», а у нее таких интересов нет: она думает только о науке, о близких людях. Единственно возможная самоидентификация для нее профессиональная ~ медик, или медик-ученый.
Ремесленник-мебельщик, самозанятый, в настоящее время работает при церкви, образование высшее (по специальности ~ биофизик), 53 года, Москва. На иерархической шкале себя разместить не может: вопрос кажется ему и трудным, и не вполне понятным. Главная трудность в том, что к людям его круга «не совсем применимы» такие «градации». В социально-профессиональном плане считает себя мелким ремесленником.
Студентка пятого курса английского факультета лингвистического университета и менеджер фирмы по программному обеспечению, 21 год, Нижний Новгород. Относит себя, исходя из положения родительской семьи и своего собственного, к седьмой ступени социальной иерархии. Это положение характеризует как «выше среднего», как «материальное и социальное благополучие».
Правозащитник, сотрудник общества «Мемориал», в прошлом научный работник-геофизик, около 50 лет, Москва. Относит себя к средней ~ пятой ~ иерархической ступеньке, понимая иерархию не как лестницу материальных и социальных статусов, а как уровни «знаний и развития гуманитарного мышления» (на верхнюю ступень помещает академика Д.С. Лихачева и С.С. Аверинцева). На вопрос о социально-профессиональной принадлежности отвечает «правозащитник», относя эту профессию по названному критерию к верхней половине социальной иерархии.
Цитируемые далее «самоидентификационные» суждения представителей деловой, административной и культурной элиты г. Тюмени отличаются по своей тематике от ответов «массовых» респондентов четырех городов европейской России. Как отмечалось выше, это отличие объясняется характером исследования тюменских социологов, объектом которого были «успешные городские профессионалы», а целью ~ анализ «ценностей и правил игры» этой части среднего класса. Принадлежность участников интервью к этому классу, по-видимому, признавалась исследователями за исходную данность, и соответственно, им не предлагалось, в отличие от наших интервью, локализовать себя на какой-то ступеньке социальной иерархии. В ходе интервью, проводимых В.И. Бакштановским, стимулировались размышления их участников о том, есть ли у них «личная потребность в самоидентификации со средним классом, и если есть, то чем мотивирована эта потребность?» Им предлагалось выразить «свое отношение к распространенным суждениям о природе среднего класса, о роли материальных факторов в самоидентификации с ним, об ее мотивах, об образе «человека середины», о духе буржуазности и других базовых ценностях [4, с. 9]. Таким образом, здесь перед нами не спонтанная социальная самоидентификация, как в предыдущей серии интервью, но аналитическая рефлексия о самих принципах такой идентификации. Это дает основание авторам исследования рассматривать опрошенных ими жителей Тюмени не как «респондентов», а как «подлинных соавторов проекта» [4, с. 8].
Перейдем к краткому изложению их размышлений.
Судья областного арбитражного суда, в советское время городской прокурор, потом преподаватель высшей школы, 51 год (цитируемой работе приводятся подлинные фамилии участников интервью. Мы не будем их воспроизводить, придерживаясь традиционного для социологии принципа анонимности.). Отрицает саму правомерность понятия «средний класс», считая его идеологической фикцией, придуманной либералами, чтобы «оправдать свои реформы, несправедливость разделения общества на бедных и богатых». Для участника интервью вообще неприемлем принцип стратификации, основанный на уровне материального благосостояния («повышение и понижение уровня дохода нашей семьи никак не отражается ни на моем мироощущении, ни на моем поведении»). Этому принципу он противопоставляет образ социальной структуры как своего рода иерархии социально-профессиональных ситуаций («от преступника до Генерального секретаря Коммунистической партии»), где место каждого индивида фатально предопределено: «каждый живет в своем слое, на своем уровне, и это не результат его «свободного выбора», а объективно отведенная ему биологическая ниша».
Эта концепция социальной стратификации, напоминающая теорию Ломброзо, сочетается у тюменского юриста с готовностью принять морально-этическое измерение понятия «средний класс», а его представителя ~ как избегающего крайностей «и в политике, и в достатке, и в образе жизни... достигшего стабильной позиции в обществе благодаря своему профессионализму, реализовавшего себя через профессионализм и потому достигшего известной жизненной независимости, автономности, не рвущегося «выше», ибо это требует включения в «крысиные гонки» [4, с.14,15].
Женщина-педагог, основатель и директор (до июля 1999 года) Педагогического колледжа в г. Тюмени, около 65 лет. Признает «средний класс» своего рода вспомогательным, служебным понятием, пригодным лишь «для характеристики материального уровня жизни человека», но не «духовной стороны» его жизни. Основной категорией самоидентификации для нее является понятие интеллигенции, которая «в духовном отношении выше условного «среднего класса», хотя ее представители и «ориентированы на стандарты среднего класса ~ с точки зрения материального благополучия» [4, с. 32, 33].
Женщина-профессор, доктор философских наук, основатель и ректор Тюменского международного института экономики и права, заведующая кафедрой социального менеджмента Тюменского университета, 56-57 лет. Для участницы интервью средний класс ~ центральная самоидентификационная категория, в значительной мере совпадающая с понятием интеллигенции. Этот класс выделяется не по материальным («дача, квартира, машина»), а по интеллектуальным и моральным критериям, по роли в обществе. «В моем понимании средний класс ~ это тот слой общества, представители которого задали, прежде всего себе вопрос: «если не мы, то кто?» ...Мы, средний класс, берем на себя конструктивную функцию... Обязательным критерием является соответствие определенным ценностям и нормам жизни, в том числе ценностям и нормам Дела. Дела, которым занимаются предприниматель, госслужащий, менеджер, дела, которым занимается интеллигент». Тот же критерий использует тюменский профессор и для анализа социальной стратификации в целом. Так, высший класс для нее ~ это «люди высокого интеллекта, способные формулировать общественно значимые идеи, а также находить способы, средства и методы их реализации» [4, с. 36~38].
Геофизик, политик, до 1996 ~ бизнесмен, заместитель генерального директора Тюменнефтегеофизики, активист «Демократического выбора России», с 1996 года председатель исполкома демократической коалиции «Западная Сибирь», депутат городской Думы, 36 лет. Как либеральный политик придает понятию «средний класс» прежде всего решающее социально-политическое значение: «это наша политическая опора ~ никакого «Выбора России» не будет, не будет «Правого дела», если в стране не сформируется средний класс». Сам без колебаний идентифицирует себя со средним классом, основные признаки которого ~ материальная обеспеченность (означающая не богатство, но «нормальный» достаток), собственность, приверженность к либеральным ценностям и стремление к свободе, уважение к норме, «рациональность жизни» [4, с. 51~61].
Директор булочно-кондитерского комбината, в прошлом комсомольский работник, 50 лет. Самоидентификация с верхним слоем среднего класса ~ «потому что и на Западе, и в России генеральный менеджер ~ это достаточно высокооплачиваемый человек». Материальный достаток ~ «дача, квартира, машина», вообще наличие собственности, по мнению директора, ~ необходимое условие принадлежности к среднему классу, но к ним он добавляет и определенные нормативные черты психологии и образа жизни. К ним относится вложение средств в первую очередь в образование детей, а также поведенческая и интеллектуальная самостоятельность личности, жизненная стратегия, основанная на принципе «не верь, не бойся, не проси». Участник интервью не отождествляет идентификацию со средним классом с положением «в середине», если под серединой подразумевается большинство. Идеал для него ~ люди, способные к инновациям, на первых порах не принимаемым большинством, и поэтому вначале неизбежно оказывающиеся в меньшинстве. Но, в то же время, ему близка «середина», понимаемая как устранение от крайностей, отказ от «стремления к сверхуспеху» и участия в «крысиных гонках» [4, с. 63~65].
Художник, преподаватель Тюменского колледжа искусств, 51 год. Затрудняется в идентификации себя со средним классом, как и вообще в самоотнесении к какой-то определенной «графе». Эта трудность обусловлена, по его мысли, как общей нестабильностью жизни, так и индивидуализмом, свойственным творческим людям. Даже материального критерия недостаточно, по его мнению, для выделения среднего класса: «у тех, кто подходит под этот стандарт, могут быть такие проблемы, что они захотят отнести себя к классу «низшему». «Для меня, ~ говорит художник, ~ естественнее относить себя к интеллигенции» [4, с. 67~69].
Журналист, издатель и редактор газеты, 61 год. Отождествляет себя одновременно с интеллигенцией и средним классом, природу которого, по его мнению, «характеризует сумма степеней свободы». Интеллигент из среднего класса ~ это человек, обладающий материальным благосостоянием, «определенной гарантией», но не утративший духовности, живущий интеллектуальными, творческими интересами. «Он стал человеком среднего класса потому, что успешно реализовал свой творческий потенциал». Люди среднего класса умеют остановиться в своем стремлении к достатку, к богатству, они определяют свои потребности «по критерию необходимого и достаточного». В то же время они индивидуалисты, не хотят «подчиняться, ходить строем» [4, с. 87~89, 95].
Директор машиностроительного завода, 62 года. Ранее не задумывался о возможности отнесения себя к среднему классу, а «если все же поставить перед собой этот вопрос, ... то легче всего применить к себе определенные показатели уровня жизни, например, «дача, квартира, машина». Кроме того, могу позволить себе и покупать литературу, и отдыхать на курорте». Полагает возможным отнести себя к среднему классу также по признаку профессионализма и потому, что «уважает нормы общества, ценит порядок» [4, с. 100, 101].
Врач, профессор, директор Кардиологического центра, 43 года. Никогда не задумывался над вопросом о своей принадлежности к среднему классу. «Кстати, и сам термин средний класс мне не очень нравится: средний, низший, высший ~ напоминает терминологию кастового разделения. Если уж надо принять какую-то классификацию, то мне ближе принадлежность к интеллигенции». Средний класс, по мнению кардиолога, ~ «это больше экономическое понятие», слишком узкое для самоидентификации людей, которые «творчески реализовали себя через профессию» [4, с. 113, 114].
Ректор Технического университета, 46 лет. Относит себя к среднему слою среднего класса. По определению ректора, «средний класс составляют люди, которые прежде всего решили для себя экономические проблемы, достигли определенных стандартов благополучия. И не только в денежной форме... Человек среднего класса достигает определенных высот в жизни и в деле благодаря своему профессионализму... Значимость ценности успеха для человека среднего класса трудно преувеличить» и, кроме того, человек среднего класса ~ существо общественное. Мы, средний класс, внимательно прислушиваемся к тому, что происходит в обществе и склонны поддерживать его стабильность во всех сферах жизни. Например, мы хотим одеваться не просто так, как бог послал, а соответствовать определенным нормам». Развивая эту тему стиля жизни и потребления среднего класса, ректор утверждает, что, хотя он учитывает требования моды, ему чужда как неряшливость («наплевательство») маргиналов, так и престижное потребление («высокомерие») элиты. И в то же время образ жизни среднего класса не однороден, определяется профессией принадлежащих к нему людей: он разный у политика, чиновника, бизнесмена, профессора.
В целом для ректора средний класс ~ понятие не только социально-стратификационное, но и нормативно-этическое, обозначающее определенный тип мотивации, жизненной философии. Эпитет «средний» выражает в этом смысле такое состояние человека, в котором он, достигнув «определенных высот», стремится к «более высоким вершинам», руководствуется идеей, «которая звала бы к лучшей жизни» [4, с. 128, 129, 133, 141].
Глава администрации г. Тюмени, в прошлом начальник отделения железной дороги, 50 лет. Идентифицирует себя со средним классом, хотя и не без сомнений. Они обусловлены тем, что это понятие его несколько «раздражает»: оно может ориентировать на самоудовлетворенность и остановку в росте; «среднее», по его словам, «как бы закрывает индивидуальное». Кроме того, самоидентификации со средним классом препятствует должность мэра: она задает ролевые нормы, «границы поведения», отличающиеся от типичных для «обычных» представителей этого класса. В то же время идентификация со средним классом кажется тюменскому мэру привлекательной, так как он отождествляет ее не только с уровнем дохода и с профессионализмом, но и с близкими ему ценностями и нормами. К их числу он относит отказ от максимализма и способность к компромиссу, сочувственное отношение, помощь «тем, кто ниже» ~ бедным, слабым. Понятие «средний класс» важно для мэра еще и потому, что оно легитимизирует отвергавшиеся в советское время «буржуазные», «мещанские», «обывательские» ценности. Мэр видит их смысл в стремлении к «рациональному обустройству жизни», заботе о благополучии семьи, которые совсем не обязательно, по его мнению, ведут к утрате духовности [4, с. 142~158].
Врач, профессор, заведующий кафедрой Медицинской академии, до 1999 года ~ заведующий горздравом, 49 лет. Наиболее важным критерием принадлежности к среднему классу считает «успешную профессиональную самореализацию человека». Профессионализм же, по мнению профессора, предполагает сочетание менеджерской и общественной деятельности, инновации «как в теории, так и во внедренческой практике, служение людям». Вместе с тем «средний класс» ~ это люди социальной нормы..., люди, которые ориентированы на культуру «золотого сечения». Норма ~ это оптимум между желаемым и возможным, между амбициями и трезвой самооценкой. И мне кажется, что люди среднего класса как раз и ориентированы на такой оптимум, их амбиции и их самокритика определяет их нишу как социальную середину». Профессор «хотел бы», чтобы его идентифицировали как человека среднего класса («это престижно»), но в то же время ему «не очень хочется публично декларировать себя» в этом качестве. Основа этой амбивалентной позиции ~ отсутствие в российском обществе общих «правил игры» ~ правовых и моральных, на которые могли бы опереться люди, способные к успеху, которые могли бы обеспечить таким людям «моральный комфорт». «Общество не задает стандарты достойной жизни, и от этого мы страдаем» [4, с. 159~162, 165~168].
Академик РАН, председатель президиума Тюменского научного центра (включающего три института), директор Института криосферы, 59 лет. Вопрос о самоидентификации со средним классом для него не актуален. Полагает, что «сегодня в России еще не сложился общепризнанный образ среднего класса. Слишком мало времени прошло, чтобы делить общество на новые классы. В большинстве своем мы еще живем старыми представлениями о структуре общества...» Относит себя (как и в советское время) к научной элите [4, с. 170, 171].
Журналист, председатель регионального комитета по телерадиовещанию, неполное высшее образование (два курса историко-филологического факультета), 53 года. О самоидентификации со средним классом: «хотя объективно меня можно причислить к среднему классу, сам себя я все же с ним не ассоциирую, мне кажется, что я не классифицируем. Как самодостаточная личность отношу себя к самому себе, а не к какому-либо классу... Как человек творческий, я исповедую богемные принципы жизни». Склонен скорее идентифицировать себя как профессионала или в крайнем случае как «нестандартного человека среднего класса» [4, с. 182, 184].
Инженер, заместитель по информационным технологиям главного инженера института «Гипротюменьнефтегаз», 47 лет. Уверенно относит себя к среднему классу. Основание: «в семье достаток, дочь учится в университете, сын ~ в аспирантуре, в нынешнее сложное время мы можем позволить себе немного больше, чем другие». Признак человека среднего класса: он «много и качественно работает и потому рано или поздно к нему приходит успех». Главный критерий самоидентификации со средним классом для него, однако, не материальный достаток как таковой, но уверенность в будущем, в гарантированности «нормальной жизни». Высоко оценивает социальную роль «людей середины». Средний ~ это же нормально. «Человек середины» ~ тот стержень, на котором держатся все» [4, с. 193~195].
Женщина-директор школы, 46 лет. «Если примериться к стандартным критериям «среднего класса», могу отнести себя к типичным его членам ~ хотя бы потому, что имею и дачу, и машину, и квартиру». То же ~ и по критерию образования детей: дочь закончила вуз и живет в США, сын учится в университете. Уверена «в своем профессионализме ~ опасность потерять пост меня не пугает». В то же время самоидентификация со средним классом у нее интереса никогда не вызывала: «в советское время считала (да и сегодня тоже), что принадлежу к интеллигенции» [4, с. 201~203].
Заместитель губернатора по проблемам социальной политики, в прошлом секретарь обкома комсомола. «Если рассуждать с точки зрения наиболее распространенного понимания природы среднего класса, то я могу отнести себя к людям этого рода. Речь идет о таком критерии самооценки как уровень достатка... Зарплата позволяет мне обеспечивать семью». Однако такого рода критерии кажутся заместителю губернатора недостаточными для самоидентификации, поскольку не отражают адекватно систему его ценностей и жизненных целей. Достижение материального достатка для него не самоцель ~ «мне неинтересно просто работать за зарплату, зарплата не дает счастья». Положительный же смысл идентификации со средним классом видит в отождествлении данного понятия с таким качеством, как «основательность», означающая «хорошее владение основами своего дела» и придающая человеку статус «хорошиста», отличающая его как от серого троечника, так и от отличника ~ тем, «что не любит рвать подметки», порхать по «верхушкам». «Основательность» для него ключевое позитивное понятие, распространяющееся как на устройство собственной материальной жизни (которое прежде, по его словам, несправедливо клеймилось как «буржуазность»), так и на профессиональную деятельность [4, с. 216~218].
Профессор, специалист по государственному праву, проректор университета по учебной работе, 51 год. Не придает большого значения собственной социально-групповой принадлежности («для меня это скорее этикеточка, ярлык ~ не более того»). Принадлежность к какой-то социальной категории не является, по его мнению, показателем свойств личности. «В каждом классе, прослойке, в каждой профессиональной группе есть и люди «серенькие», и люди необычные, неординарные, самобытные, яркие, талантливые». Тем не менее, считает возможным отнести себя к среднему классу как по материальным критериям, так и потому, что ставит перед собой более высокие цели, чем простое выживание, имеет широкий круг интересов, «интересную работу, которой я отдаю себя полностью» [4, с. 226, 227].
Директор Центра рационального недропользования Ханты-Мансийского автономного округа, геолог, доктор наук, 58 лет. Принципиально отказывается от какой бы то ни было социально-классовой самоидентификации: «никогда себя ни к каким классам не относил ~ например, в советские времена ~ к интеллигенции, считал это обычной жандармской системой учета граждан». Признает для себя только идентификацию узкопрофессиональную («мой «дом» ~ прогнозирование»), которую тесно связывает с общественным и созидательным содержанием своей профессиональной деятельности: «моя самоидентификация ~ прежде всего патриот, стремящийся созидать» [4, с. 233, 234].
Химик, доктор наук, бизнесмен (руководитель концерна), в прошлом декан химического факультета университета, 48 лет. Отказывается от самоидентификации со средним классом, так как считает, что в России этого класса нет. «В России наличие некоторых общепринятых признаков среднего класса не срабатывает из-за отсутствия условий стабильности бизнеса и жизни». Считает себя профессионалом в сфере бизнеса [4, с. 253~255].
КОММЕНТАРИЙ И АНАЛИЗ: КРИТЕРИИ ИДЕНТИФИКАЦИИ
Представленные индивидуальные самоидентификации могут, как мы полагаем, быть классифицированы по двум основным критериям. Во-первых, по степени согласия человека с самим принципом социального самоопределения по вертикальной шкале, выраженным или численными показателями (номером занимаемого им «этажа»), или в понятиях «низший, средний, верхний». Во-вторых, по признакам, которые он выбирает для такого самоопределения. Можно предположить также, что между этими двумя критериями существует некая взаимозависимость: готовность принять предложенный принцип самоидентификации так или иначе соотносится с избираемыми в рамках этого принципа конкретными характеристиками социального статуса.
Остановимся вначале на первом критерии. Приведенные выше данные ВЦИОМ и комментарий к ним Л.А. Хахулиной убедительно свидетельствуют о процессе освоения постсоветским общественным сознанием «стратификационного» принципа социальной структуры. Реальность этого процесса в то же время не означает, что образ построенного по вертикали общества был чужд советскому сознанию. Напротив, этот образ не мог не продуцироваться всей бюрократически организованной общественной системой «реального социализма». Однако советская «вертикаль» значительно отличалась от той, в рамках которой позже стало возможным распространение понятий типа «средний класс».
Во-первых, в соответствии с бюрократическими основами тоталитарно-авторитарного слоя эта «вертикаль» отражала лишь один аспект положения людей в обществе ~ их место в системе власти. Иными словами, образ социальной структуры был не многомерным ~ в том смысле, в каком он является в соответствии с веберовским и вообще современным пониманием стратификации, а одномерным, как одномерна, например, стратификация внутри воинского подразделения или государственного ведомства. И именно поэтому он выступал, во-вторых, не в виде некоего вертикального континуума, в котором находят свое место, в частности, средние слои (или средний класс), но, скорее, в виде дихотомии: начальство («руководители») плюс выдающиеся (точнее, официально признаваемые таковыми) деятели и «рядовые трудящиеся».
Для этих последних, поскольку они составляли абсолютное большинство, «массу равных», их положение на социетальной «вертикали» не было индивидуализированным и не могло служить поэтому решающим критерием индивидуальной самоидентификации. Гораздо большее значение имели идентификации по горизонтали ~ по принадлежности к большим социально-профессиональным группам (рабочие, служащие, колхозники, интеллигенция) или корпорациям (шахтеры, железнодорожники, военные, милиция, учителя, медики, ученые и т.д. и т.п.). Вертикальный принцип в ряде ситуаций тоже был важен, но не как социетальный, а как внутрикорпоративный (звания и должности в армии, научные степени и звания в высшем образовании и научных учреждениях, народные, заслуженные и просто артисты в театре и кино и т.д.).
Сам факт готовности возрастающего числа современных россиян относить себя к не имеющим профессиональной окраски ступеням именно социетальной, а не внутрикорпоративной иерархии, несомненно, отражает становление совершенно иного образа социальной структуры. Он также говорит об использовании различных критериев такого самоотнесения и о нередких колебаниях в их выборе, что свидетельствует, очевидно, о многомерности этого нового образа. Интересно, что некоторые респонденты пытаются переосмыслить в ключе этих новых стратификационных категорий свое положение в советское время, или сетуя на то, что они принадлежали к среднему классу, а теперь утратили прежний статус, или, напротив, утверждая, что сохранили прежнее «среднеклассовое» положение. Все это говорит о том, что новый способ социальной идентификации приобрел качество массового социального представления, питаемого как источниками информации, так и всем опытом жизни в постсоветских условиях. Вместе с тем, среди респондентов имеются значительные различия в уровне усвоения этого представления.
Подавляющее большинство как наших респондентов, так и участников тюменского исследования соглашаются с просьбой социологов определить свое место на вертикальной социальной шкале, однако смысл этой идентификации для них различен. Часть их воспринимает ее просто как характеристику своего объективного положения ~ главным образом, материального, т.е. уровня доходов и его стабильности, гарантированности, основывая представление о выбранной страте или «классе» на образе своей ситуации и определяемых ею жизненных возможностей. Другая часть респондентов «субъективирует» выбранную позицию, увязывая ее со своими личными ценностями, целями, жизненной стратегией. Некоторые совершают предлагаемый выбор как бы неохотно и с колебаниями, соглашаясь с реальностью вертикальной стратификации, но подчеркивая, что для них более адекватным является традиционное соотнесение с социально-профессиональной группой (интеллигенцией).
И, наконец, последняя группа респондентов в принципе отвергает самоотнесение к какой-либо страте и «классу», или акцентируя собственную индивидуальную уникальность, несовместимую с таким соотнесением, или полагая себя принадлежащим только к микрогруппе («кругу») и затрудняясь в выборе «своей» макрообщности. Есть и такие, которые признают членение общества только по культурным, интеллектуальным и функциональным критериям ~ на просвещенную и просвещающую элиту и «массу». Некоторые участники тюменского исследования отказались от идентификации со средним классом, ссылаясь или на «идеологичность», надуманность этого понятия, или на отсутствие такого класса в России.
Насколько позволяют судить используемые нами данные, социальное представление о делении общества на вертикально расположенные страты активнее всего усваивают люди, обладающие сильной мотивацией успеха в рамках институциональных организаций ~ административных, производственных, деловых или научных и образовательных. Одни из них испытывают удовлетворенность достигнутыми «средними» позициями, рассматривая их как разумный предел собственной вертикальной мобильности и отказываясь от «крысиной гонки», т.е. чрезмерного напряжения физических и психических ресурсов, которого потребовало бы стремление к более высоким позициям. Возможно, мы имеем здесь дело с типичным проявлением хабитуса по Бурдье, с подгонкой потребностей к возможностям; на их оценку влияет, в частности, неуверенность в собственных способностях добиться большего успеха, рационализируемая в форме апологии «среднего» положения (мы находим ее в ряде «рефлективных биографий» тюменских профессионалов). Другие такие респонденты, напротив, говорят о своем стремлении добиться еще большего успеха.
В обеих группах названное социальное представление развито (по терминологии С. Московиси) до уровня «укоренения»: движение по вертикальной статусной лестнице органически вошло в систему их мотивов и ценностей, а достигнутая «высота» (или та, которой человек надеется достигнуть в будущем) является психологически значимым показателем степени реализации данной мотивационной интенции.
Не случайно многие представители этих групп респондентов делали в советское время успешную карьеру в комсомоле или в хозяйственном управленческом аппарате. Психологическая вовлеченность в одну из «старых» корпоративных иерархических систем, очевидно, облегчила им усвоение новой вертикальной стратификации, интериоризацию соответствующих ей социальных представлений. В то же время у всех или почти у всех них достигнутый социальный статус основан на их положении в той или иной институциональной организации и выражен в определенных, признаваемых в ее рамках, формально-символических признаках (пост, должность, звание). Это побуждает их символизировать реальный или эвентуальный уровень успеха в неких формальных социальных категориях ~ вроде предлагаемых социологами и СМИ категории «среднего класса». Можно предположить, что вообще потребность личности в макрогрупповой социальной идентификации тем сильнее, чем больше позитивная результативность ее деятельности структурно связана с взаимодействием в рамках организации. Как отметил в своей «рефлексивной биографии» директор тюменского завода, «главным источником личного успеха является успех всего коллектива, твоего предприятия».
Иной социальный и психологический облик имеют те люди, для которых вертикальная социальная идентификация или вообще не значима, или имеет второстепенное значение, лишь как показатель объективной материальной ситуации. Одним ценность успеха более или менее чужда в силу их объективной ситуации, вынуждающей сосредотачивать все помыслы и заботы на простом выживании. Для других эта ценность, напротив, важна, но успех осмысливается ими, прежде всего, как реализация индивидуальных, творческих, инновационных способностей, не нуждающаяся в символизации определенным социальным статусом. Такой успех может воплощаться в успехе конкретного «дела», которому посвятил себя человек, или просто в его личных творческих свершениях. Подобное понимание успеха характерно, главным образом, для людей творческих профессий: ученых-исследователей, журналистов, художников.
Для людей, ориентированных на творчество, нередко единственно значимая социальная иерархия ~ это иерархия «по таланту». Так, московская врач-офтальмолог, доктор наук, идентифицирующая себя как «медик-ученый», так и не смогла ответить на вопрос интервьюера, к какой социальной «ступеньке» она себя относит. При обсуждении же темы дифференциации между профессиональными группами и внутри них респондентка выделила в качестве решающей ее основы «дар Божий». Ей, например, «Боженька дал интуицию ...в плане диагностики...»
Ориентация на творчество означает, что в мотивационной системе личности одно из доминирующих мест занимает потребность в самоактуализации. У некоторых наших творчески ориентированных респондентов ~ художников, пишущих картины «для души» и для заработка в свободное от основной работы время, ремесленника-мебельщика ~ эта ориентация не связана или мало связана со стремлением к социально символизируемому успеху. Для них характерен своего рода «творческий гедонизм» ~ они получают удовольствие от самой работы. Как сказал интервьюеру один из респондентов-физиков, для него одна из главных радостей в жизни ~ решать интересные «задачки», и о чем-то большем в профессиональной карьере он не мечтает. Для таких людей, принимают они или отвергают вертикальную статусную стратификацию, она явно не имеет большого психологического, мотивационного значения.
Какими же критериями определяют россияне, так или иначе признающие реальность такой стратификации, свою принадлежность к той или иной страте или «классу»?
На первом месте в ряду таких критериев, если судить по сравнительной частоте их упоминания ~ прямого или подразумеваемого, несомненно, находится критерий материальный: уровень дохода, имущественное положение. Однако при более внимательном анализе интервью выясняется, что во многих случаях материальный фактор рассматривается в действительности не как главный аргумент социальной самоидентификации, но лишь как один из ее необходимых компонентов. Например, как необходимое, но недостаточное условие самоотнесения к среднему классу.
В ходе проведенного автором в июле 2000 года опроса группы российских менеджеров и предпринимателей, проходивших стажировку в странах Западной Европы по программе тренинга ЕС (МТР-Managers' Training Programm), в числе наиболее важных критериев, позволяющих относить человека к тому или иному слою общества, в том числе к среднему классу, 74% опрошенных назвали размер дохода, а 28,5% ~ объем собственности. Однако подавляющее большинство из них отметили, наряду с материальными, другие критерии социальной идентификации: 57% ~ уровень образования и квалификации человека, 48,5% ~ социальный статус, 20% ~ социальный престиж, 43% ~ образ и стиль жизни, 31,5% ~ круг знакомств и общения, 24% опрошенных вообще не включили материальные критерии в число наиболее важных и только 8,5% посчитали размер дохода единственно важным критерием идентификации.
Можно выделить две наиболее типичные психологические ситуации, в которых материальный критерий фактически признается не только решающим, но и единственно значимым.
Одна из этих ситуаций носит, по-видимому, наиболее массовидный характер и объясняет, почему число россиян, относящих себя к «средней» части социального пространства, значительно превышает ее размеры, определяемые по объективным критериям. Эту ситуацию испытывают люди, для которых процесс адаптации тождественен простому выживанию. В силу возраста, характера образования, профессионального опыта или психологического склада им недоступны активные формы адаптации; чаще всего они принадлежат к профессиональным общностям, испытывающим резкое снижение зарплаты или кризис занятости; для них реальна угроза нищеты, крайних форм маргинализации. Для таких людей, как видно из интервью с ними, «группой соотнесения» нередко являются бомжи или безработные, угроза пополнить их ряды плюс самолюбие, потребность в сохранении максимального социального и личного достоинства побуждает таких респондентов относить себя к средним ступеням социальной лестницы. Причем такое самоотнесение, как правило, не зависит от реального материального и социального статуса человека: например, на одних и тех же или близких ступенях помещают себя рабочий ВПК, довольный тем, что ему удалось избежать увольнения; мелкий предприниматель, страдающий от эфемерности своей ситуации, но имеющий дорогую машину и отдыхающий за границей; ученый-бюджетник, которому удается где-то «на стороне» заработать прибавку к своей нищенской зарплате.
К этому типу представлений близко и сознание тех людей из «субъективного» среднего слоя, которые получают низкий для своей профессиональной категории доход, и, по-видимому, озабочены, главным образом, проблемой заработка. Так, среди менеджеров, считающих доход единственным критерием социальной идентификации, преобладают, по данным нашего опроса, люди с довольно низкой (меньше 5 000 руб. в месяц) зарплатой, относящие себя к нижнему слою среднего класса.
Вторая ситуация, побуждающая придавать решающее значение материальной основе вертикальной стратификации, характерна для людей, которые эту стратификацию вообще не считают особо значимым фактором социального самоопределения и самочувствия. Прежде всего, это представители «интеллигентных» профессий, оценивающие свое социальное положение не с точки зрения иерархического статуса, а исходя из социальной значимости своего труда и приносимого этим трудом морального удовлетворения. К ним относится, например, москвичка-библиограф, полагающая, что по уровню доходов она «не дотягивает до среднего класса», но увлеченная своей работой, одна из наиболее жизнерадостных и оптимистичных наших респонденток (следует, правда, учитывать, что материально ее поддерживает сын, выполняющий доходную работу в частном секторе). Или молодая женщина-врач, которая, отвечая на соответствующий вопрос интервьюера, пытается определить свой статус одновременно по двум разным иерархиям: объективной, материальной и субъективной, «по самоощущению». Ясно, что «субъективная иерархия» важнее для ее социальной самоидентификации, чем «объективная».
В высказываниях некоторых респондентов-бюджетников, выражающих такого рода позиции, звучит раздвоенное представление о существующей в России статусной иерархии. Подлинной иерархии, которая опредделяется социальной ценностью профессиональной деятельности человека, они противопоставляют иерархию искусственную, навязанную государством и социальными институтами, признаком которой является «невостребованность» наиболее ценных социально знаний и профессиональных квалификаций, несправедливо низкая их оплата.
Решающим критерием социального самоопределения для большинства респондентов является профессиональное положение, выполняемая работа. При этом могут акцентироваться, выдвигаться на первый план и выступать в тех или иных комбинациях разные аспекты индивидуальной профессиональной ситуации. В некоторых случаях решающим стратификационным критерием признается формальный должностной статус (например, заведующий отделением в больнице). Но значительно чаще приоритет отдается содержанию работы, ее творческому характеру, уровню квалификации, тем возможностям самореализации, использования знаний и раскрытия способностей человека, которые она предоставляет, ее социальной значимости, приносимой ею пользе.
Для части респондентов весьма важно обусловленное социально-профессиональным положением соотношение свободы и зависимости индивида. Так, для мелких предпринимателей фактором, повышающим их социальный статус, является независимость. Рабочие определяют свою страту с учетом своего зависимого положения.
Все эти аспекты трудовой деятельности выступают в том или ином соотношении с фактором ее материального вознаграждения. Упоминавшаяся выше позиция, согласно которой материальное благополучие ~ необходимое условие, но не решающий критерий среднего или высокого социального статуса и удовлетворяющих личность условий и содержания жизни, наиболее характерна для людей, принадлежащих к категории высокооплачиваемых специалистов.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОПТИМИЗМ КАК СОЦИАЛЬНО-СТРАТИФИКАЦИОННЫЙ ИНДИКАТОР
В качестве особого критерия социальной самоидентификации можно выделить, как мы это уже видели на примере некоторых респондентов, самочувствие человека, иначе говоря, его психологическую адаптацию к современной ситуации. Этот критерий часто пересекается с названными выше: индивид может иметь хорошее самочувствие благодаря удовлетворительному материальному положению или интересной работе. Однако бывает и так, что самоотнесение к средней страте по данному критерию не зависит от подобных факторов: например, некоторые женщины из наших выборок, не имеющие ни увлекающей их работы, ни сносного жизненного уровня, чувствуют себя хорошо потому. что довольны своей семейной жизнью и надеются на лучшее будущее для своих детей. Одна из таких женщин ~ пенсионерка, у которой муж в момент интервью не получал зарплаты, страдает от бедности, в то же время довольна тем, что оба ее сына прилежно учатся и не пьянствуют, не хулиганят. Здесь чувствуется действие механизма «относительной депривации»: «группой соотнесения» у пенсионерки служит люмпенизированная среда городских низов с типичной для нее деградацией повседневной жизни и семейных отношений. Для таких женщин характерно взвешенно-рациональное, заинтересованное отношение к современной российской действительности: они говорят и об отрицательных, и о положительных аспектах произошедших в последние годы перемен.
Социальное самочувствие людей, вообще говоря, ~ один из важнейших показателей характера процессов, происходящих в обществе, психологической вовлеченности различных групп населения в эти процессы или их отчужденности от доминирующих тенденций общественного развития. Применительно к проблематике российского среднего класса, как она сформулирована во вводной главе книги, самочувствие относящихся (по объективным параметрам или по критерию самоидентификации) к нему людей позволяет приблизиться к ответу на вопрос, в какой мере те или иные группы среднего класса готовы занять активную позицию в преобразовательном процессе. Данное соображение, как отмечалось выше, побудило автора выбрать для одной из серий интервью оптимистически настроенных респондентов, в большинстве своем относящихся по тем или иным критериям к средним слоям российского общества. В связи с этим стоит привести репрезентативные данные Фонда «Общественное мнение», рисующие своего рода социальный портрет российских оптимисто (тор выражает благодарность Е.С. Петренко, предоставившей в его распоряжение эти данные.)в.
В январе 1998 года «оптимисты» составляли 21%, в январе 1999-го ~ 16%, а в июле 2000 года ~ 29% опрошенных. Эти данные, несомненно, отражают влияние августовского кризиса 1998 года на динамику общественных и личных настроений, а также эволюцию экономической и политической ситуации после кризиса, особенно после президентских выборов марта 2000 года. В относительно «нормальной» ситуации доля «оптимистов» составляет пятую часть~четверть (или несколько больше) взрослого населения. Их распределение по населенным пунктам различного типа более или менее равномерно: в мегаполисах, в больших и малых городах число «оптимистов» по отношению к общему числу жителей весьма незначительно отклоняется от их доли в целом по стране. Более заметны такие отклонения лишь в столичных городах (Москва, Санкт-Петербург) и на селе: в первом случае доля оптимистов непропорционально велика, во втором ~ непропорционально мала. Мужчин среди оптимистов несколько больше, чем женщин, 63% этой группы опрошенных принадлежат к возрастной группе 18~35 лет, 25% ~ 36~50 лет, 12% ~ старше 50 лет. Доминирование младших и младших средних возрастов среди оптимистов естественно и вряд ли нуждается в каких-либо комментариях и объяснениях.
Приведем данные, показывающие связь оптимизма с уровнем дохода.
Оптимизм, несомненно, возрастает с ростом доходов, однако эта корреляция далека от прямой пропорции, носит ограниченный и неустойчивый характер. В 1998 и 1999 годах доля оптимистов с более высокими доходами значительно превышала долю этой доходной группы по отношению ко всему населению, но летом 2000 года это превышение было намного меньше. В 1999 и 2000 годах доля оптимистов с наиболее низкими доходами была лишь ненамного ниже удельного веса данной доходной группы в выборке (табл. 2). Очевидно, действие «материального» фактора, во-первых, в значительной мере перекрывается фактором возрастным: очень мало зарабатывающие молодые люди надеются на относительно быстрое улучшение своего положения. Во-вторых, сравнение опросов разных лет показывает, что определяемое политическими факторами улучшение общей психологической атмосферы в обществе (в 2000 году оно было связано с надеждами на нового президента) способно существенно уменьшить различие в уровне оптимизма наиболее бедных и относительно состоятельных слоев. Индивидуальный оптимизм является в значительной мере функцией определенного общественного настроения.
Таблица 2
Оптимизм и уровень доходов
|
Дата опроса |
Доход в расчете на члена семьи |
% доходных страт от группы «оптимисты» |
% доходных страт от всех опрошенных |
|
Январь 1998 |
до 250 руб. |
26 |
32 |
|
250~399 руб. |
20 |
29 |
|
400~25 000 руб. |
50 |
35 |
|
январь 1999 |
до 200 руб. |
21 |
25 |
|
200~301 руб. |
20 |
26 |
|
301~500 руб. |
17 |
24 |
|
500~22 000 руб. |
38 |
22 |
|
июль 2000 |
до 400 руб. |
31 |
32 |
|
400~700 руб. |
21 |
31 |
|
более 700 руб. |
39 |
32 |
|
Гораздо более рельефно по сравнению с уровнем дохода проявляется действие другого фактора ~ уровня образования. В 2000 году доля среди оптимистов людей с высшим, общим средним и средним специальным образованием ненамного (на 1~5%) превышала долю последних в населении. Зато респонденты с образованием ниже среднего, составляя 21% всей выборки, формировали всего 9% от группы «оптимисты». Конечно, здесь тоже может сказываться действие возрастного фактора; малообразованных больше среди людей старших возрастов. Так или иначе, наиболее трудно преодолимыми барьерами для активной жизненной позиции, для уверенности в своих силах и возможностях оказываются ~ наряду, разумеется, с индивидуальными психологическими особенностями ~ возраст выше среднего и низкий уровень образования. Люди, в ситуации которых сочетаются обе эти характеристики, если они не являются пенсионерами, чаще всего выполняют малоквалифицированный и неинтересный, нередко случайный, не дающий морального удовлетворения труд, и не рассчитывают как-то изменить свою жизнь.
Насколько уровень оптимизма связан с профессией, подтверждают данные о профессиональном составе оптимистов. Среди оптимистов доля руководителей предприятий и учреждений, работников сферы услуг и торговли, и особенно специалистов, предпринимателей, самостоятельных работников, значительно превышает их долю по отношению к населению в целом, а для работников сельского хозяйства, рабочих и особенно пенсионеров эти соотношения обратные (соответствующие данные на январь 1998 года приводятся в табл. 3).
Таблица 3
Оптимизм и проффесиональное положение
|
Основной род занятий, должность или служебное положение, основной источник дохода |
Доля в выборке (в %) |
Доля в группе «оптимисты» (в %) |
|
Работники сельского или лесного хозяйства |
6 |
5 |
|
Работники сферы услуг, торговли, коммунального хозяйства |
10 |
15 |
|
Пенсионеры |
27 |
9 |
|
Руководители, заместители руководителей предприятий |
2 |
4 |
|
Руководители подразделений, специалисты |
11 |
16 |
|
Рабочие |
23 |
21 |
|
Предприниматели, самостоятельные работники, частнопрактикующие |
3 |
8 |
|
Объединяющая черта профессиональных ситуаций и отраслей экономики, образующих относительно благоприятную почву для индивидуального оптимизма, ~ сравнительно высокий уровень развития рыночных, частнопредпринимательских отношений. При этом положение в соответствующих профессиях и отраслях отнюдь не отличается стабильностью и, следовательно, данный фактор, в принципе способный внушать людям уверенность в будущем, не может играть решающей роли в настроениях российских оптимистов. Вместе с тем, довольно высокая доля среди них рабочих (лишь ненамного уступающая их доле в выборке) может быть также связана с развитием рыночных отношений в промышленности, с возникновением рынка труда и в некоторых отраслях конкурентоспособных, успешно работающих «на рынок» предприятий, что благоприятно сказывается на настроениях занятых в них работников.
Все эти наблюдения подтверждают то впечатление, которое складывается в результате интервью с оптимистами. В российских условиях, в которых лишь очень немногие люди достигают устойчивого благосостояния и удовлетворительного гарантированного социального статуса, наиболее глубокой основой оптимизма, помимо возрастных и индивидуально-психологических факторов, является относительная свобода, характеризующая либо условия профессиональной деятельности индивида (свобода самореализации), либо условия экономической деятельности сообщества, корпорации, в которые он включен (зависимость индивидуальной ситуации от успешного участия предприятия в свободной конкуренции на рынке).
Здесь необходимо пояснить, в каком смысле употребляется в данном контексте понятие свободы. Сделать это важно не только в силу многозначности данного понятия. Значительно облегчает понимание роли свободы в том комплексе представлений и жизненных установок, которые характеризуют психологию российских оптимистов, появление чрезвычайно глубокого и многостороннего исследования новосибирского автора М.А. Шабановой, посвященного проблемам теории свободы и социологическим проблемам ее трансформации в российском обществе [67].
Один из важнейших выводов этой работы ~ тезис о существенном разрыве между движением российского общества к «западной» институциональной свободе и к свободе в том смысле, в каком ее понимают «большие группы его членов» [67, с. 36]. «Свобода» оптимистов не имеет прямого отношения к свободе в первом из этих пониманий, но вместе с тем отличается и от того, которое, как показывает исследовательница, характерно «для самой многочисленной группы сегодня» и в соответствии с которым «наличие денег, работы и обеспечиваемая ими стабильность жизни» ~ «главные признаки свободного человека» [67, с. 25]. Под этим определением, вероятно, подписались бы и респонденты-оптимисты. Но, кроме этого, для них ценность свободы, которую они осознанно разделяют, означает (в том или ином сочетании) также: (1) достаточно значимый удельный вес собственной инициативы и творчества в профессиональной деятельности; (2) независимость от вышестоящих иерархических звеньев какой-либо организации; (3) возможность воздействовать на собственное положение независимо от институциональных и вообще любых подавляющих свободу «объективных» факторов; (4) принадлежность к сообществу (организации, корпорации), обладающему какими-либо из этих признаков свободы.
Подчеркнем, что все эти параметры свободы вполне вписываются в обоснованный Шабановой принцип исследования свободы. В соответствии с ним это исследование должно иметь своим предметом «нечто» (объективное или субъективное), действительно значимое для социального субъекта (либо само по себе, либо как средство достижения...других жизненно важных целей, ценностей), когда у субъекта есть потребность в социальном действии для достижения или сохранения этого конкретного «нечто» [67, с. 23]. Эти параметры могут быть также использованы в русле предложенного исследовательницей метода изучения «динамики социальной стратификации в контексте свободы»: российские оптимисты могут рассматриваться как представители одного из компонентов этой складывающейся стратификации, прежде всего гипотетического среднего класса. Несомненно, в отличие от тех наиболее многочисленных социальных групп, которые главным образом исследует Шабанова, они представляют меньшинство российского общества (правда, довольно значительное).
Хотя, как отмечалось выше, оптимизм этой группы основан не на отношении к социетальной экономической и общественно-политической действительности и не может быть поставлен в прямую связь с институционально-правовой либерализацией 1990-х годов, оптимисты все же занимают определенное место в идейно-политическом пространстве российского социума. Во втором туре президентских выборов 43% оптимистов голосовали за Ельцина (в первом туре 36%) и только 15% за Зюганова (в первом туре 11%). На парламентских выборах 1999 года «Единство» поддержали 15% оптимистов, ОВР ~ 10%, СПС ~ 8%, КПРФ ~ 7%. На президентских выборах 2000 года за Путина голосовали 39% оптимистов, за Явлинского и за Зюганова ~ по 7%. Таким образом, основная масса оптимистов тяготеет к правой и право-центристской, т.е. представляющей модернизаторские тенденции части политического спектра. В то же время для них характерен и особо высокий процент не участвующих в выборах: 32 и 39% соответственно в первом и втором турах президентских выборов 1996 года, 41% ~ в президентских выборах 2000 года, 40% ~ в парламентских выборах 1999 года. Среди оптимистов больше (чем в среднем по стране) тех, кто положительно оценивает итоги приватизации и работу приватизированных предприятий, считает недопустимым ее пересмотр. Все эти данные показывают, что индивидуальный оптимизм коррелируется с модернизационными тенденциями общественно-политического сознания и в то же время с высокой степенью неприятия сложившейся в России системы политической власти и представляющих ее групп и людей, отчуждения от этой системы, т.е. своего рода психологической свободы от нее, вообще от институтов власти.
Является ли оптимизм показателем «среднеклассовой» идентичности индивида? Такую постановку вопроса вряд ли можно считать адекватной, поскольку, как мы видели, одна из основных групп оптимистов ~ это молодые люди, которые или учатся, или находятся на одном из первых этапов своей профессиональной жизни, и их место в социальной структуре общества еще не определилось. Эту оптимистически настроенную молодежь, если исходить из ее жизненных целей и устремлений, скорее можно рассматривать как резерв или источник пополнения среднего класса. С другой стороны, доля россиян, относящих себя к средним слоям общества («субъективного среднего класса»), превосходит долю оптимистов. Поэтому всего правильнее было бы полагать, что индивидуальный оптимизм ~ это характерная черта некоей части среднего класса, которая коррелируется с рядом других черт. В своей совокупности они позволяют идентифицировать эту часть в качестве особой типологической социально-психологической общности, располагающейся в «срединном» пространстве российского социума (понятие общности употребляется здесь не в смысле группы, объединяемой какими-либо внутригрупповыми связями, а обозначает лишь совокупность сходных по определенным признакам индивидов).
ГЕТЕРОГЕННАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ: СРЕДНИЙ КЛАСС КАК ОБЪЕКТ И КАК СУБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
Репрезентативные социологические данные о российском среднем классе дают возможность выделить черты этой общности, во многом совпадающие с теми, которые, судя по интервью и опросам, характерны для оптимистически настроенных россиян. Так, по данным исследования РНИСиНП, 63,5% представителей верхнего и 60,2% ~ среднего слоя среднего класса считают, что «свобода ~ то, без чего жизнь человека теряет смысл», и соответственно 36,5% и 39,8% ~ что «главное в жизни ~ материальное благополучие, а свобода второстепенна». Соответственно 68,8% и 52,9% полагают, что «выделяться среди других и быть яркой индивидуальностью лучше, чем жить как все»; 31,2% и 47,1% занимают противоположную позицию: «жить как все лучше, чем выделяться среди других». Считают, что для экономического устройства России предпочтительны плановое хозяйство или государственная собственность с элементами рынка и частной собственности, 42,4% среднего и 31,3% верхнего слоя среднего класса; свободный рынок или частная собственность с элементами госрегулирования ~ соответственно 57,5% и 68,7% .Предпочитают жить в обществе индивидуальной свободы 45% среднего класса и в обществе социального равенства ~ 26% (по России в целом соотношение обратное: 26,6 и 54%)
С точки зрения политической ориентации сторонниками рациональных рыночных реформ считают себя 22,9% представителей верхнего и 12,9% среднего слоя среднего класса, сторонниками социал-демократической идеологии ~ соответственно 5,2 и 5,6%, коммунистической по 4,2%, а большинство ~ 58,9% ~ либо не примыкают к каким-либо идейно-политическим течениям, либо выступают за соединение различных идей. В 1999 году, когда кандидатура Путина еще не появилась на политическом горизонте, основная масса представителей среднего класса намеревалась голосовать на президентских выборах за Примакова, Лужкова, Явлинского; за Зюганова собирались отдать свои голоса 1% избирателей из верхнего и 4,4% из среднего слоя среднего класса [53, c. 152, 184, 187, 189, 197].
Эти данные показывают, что при более или менее единодушном отторжении средним классом коммунистического консерватизма (модели возврата в дореформенное прошлое) в его среде существует глубокая социально-психологическая, ценностная и мировоззренческая дифференциация. Одна его часть тяготеет к ценностям индивидуализма, индивидуальной и экономической свободы, рынка и частной собственности, другая этих ценностей не приемлет, предпочитая им скромный материальный достаток и равенство, гарантируемые государственной опекой. Оптимисты, т.е. люди, рассчитывающие реализовать свои жизненные цели и ценности, опираясь на свободное развитие своих сил и способностей, принадлежат, несомненно, ~ актуально или потенциально ~ к первой из этих частей среднего класса.
Представители обеих этих частей в основном идентифицируют себя со средними позициями вертикальной социальной структуры. Конкретные данные о мотивах этой самоидентификации подтверждают постулированное выше положение об ее связи с индивидуальным адаптационным процессом. Отвечая на вопрос интервьюера, к какой ступеньке социальной лестницы относит себя собеседник, и выбирая одну из средних ступенек, респондент исходит, во-первых, из того, насколько для него вообще приемлемо распределение людей по социальной вертикали, а, во-вторых, подсознательно выстраивает иерархию своих индивидуальных потребностей и ценностей, решая при этом, насколько удается реализовать их в своей актуальной ситуации. Само же содержание ответа основано на представлении респондента о сиюминутных результатах и перспективах своей адаптации к трансформирующейся действительности, и в этом представлении отражены как степень удовлетворения потребностей и ценностей, так и сравнение собственной ситуации с ситуациями или, точнее, уровнями адаптации других людей. Самоотнесение к средним слоям в условиях широко распространенных (и усиленно распространяемых) в обществе представлений об обнищании, деградации условий жизни основной массы населения выражает, помимо более или менее реалистической оценки собственного положения, с одной стороны, отказ от принадлежности к этой массе несчастных, выступающей в данном случае в качестве «группы соотнесения». С другой стороны, отделяя себя этим понятием не только от «низших», но и от «высших», как бы фиксируя тем самым границы своих возможностей, человек одновременно акцентирует положительные аспекты своей ситуации ~ тот факт, что, не будучи оптимальной, она все же позволяет ему реализовать в существенной мере его потребности и ценности. При этом, определяя удовлетворяющую его меру такой реализации, респондент подгоняет свое практическое поведение и диспозиции к возможностям, что и лежит в основе механизма хабитуса, исследованного П. Бурдье.
«Мои доходы, ~ говорит 52-летний инженер, специалист по информационному обеспечению, помещающий себя на пятой-шестой ступени социальной лестницы, ~ всегда будут маловаты по отношению даже к самым необходимым расходам... В элите не хотел бы быть, это точно. В нищих тоже... Сказать, что я совсем уж достиг того, к чему стремился, нельзя... Что касается успешности, да, в целом успешно, потому что мы (возглавляемое им подразделение. ~ Г.Д.) подняли такой пласт работ, которыми никто не занимался... Новое, хорошее интересное дело ~ оно всех держало в таком напряжении, которое позволило выковать результат... Я с удовольствием каждый раз хожу на работу и жду, когда это можно будет сделать». И в то же время, не стремясь попасть в «элиту», этот инженер рассматривает свою ситуацию как открытую, содержащую в себе в потенции новые, еще не ясные возможности: «...впереди еще много чего будет... В общем-то мы со ступеньки на ступеньку в течение жизни много раз прыгаем» (интервью осени 1999 года).
На примере наших респондентов видно, что самоотнесение к средним ступеням может по своему психологическому смыслу выражать принципиально различные типы социального самочувствия человека. Этим самоотнесением он может просто утверждать себя в сознании, что ему удалось избежать худшего ~ опуститься в ряды бедных, обездоленных, не способных прокормить себя и семью. Так, 36-летний менеджер частного предприятия, относящий себя к четвертой ступеньке социальной лестницы и к среднему слою среднего класса, вписал в бланк анкеты (июль 2000 года) следующее характерное примечание: «После 17 августа все понятия смещены. Сейчас иметь деньги на еду ~ это уже средний класс (курсив мой. ~ Г.Д.). ~ Это я про себя. По привычке отношу себя к среднему классу». Также относящий себя к четвертой ступеньке 51-летний рабочий явно связывает эту самоидентификацию и общую удовлетворенность жизнью («я на жизнь в принципе не обижаюсь») с тем, что ему удалось избежать увольнения, которому подверглись многие его товарищи по работе (интервью конца 1997 года).
Самоотнесение к средним слоям может выражать и совершенно иной тип самоощущения: удовлетворенность реальным содержанием жизни ~ она часто осознается как трудная, сопряженная с материальными лишениями и ограничениями, но обладающая позитивным личностным смыслом, не зависящим от этих лишений и ограничений. Примерами могут служить только что цитированные размышления специалиста по информационному обеспечению или признание молодой женщины-врача, что, будучи материально бедной, она «по самочувствию» относит себя к среднему слою. А также саморефлексии многих других респондентов-оптимистов.
Важно отметить, что в большинстве рассмотренных типов социальной самоидентификации самоотнесение к тому или иному вертикальному слою или «классу» играет довольно ограниченную роль в индивидуальном самосознании. Оно не переживается индивидом в качестве некоей фундаментальной константы его самоощущения и актуализируется лишь в ходе опроса. Конечно, сам факт такой актуализации, отклик, который пробуждают соответствующие вопросы социологической анкеты, свидетельствует о том, что эта идентификация созвучна каким-то компонентам самосознания, но она, скорее, служит одним из возможных способов символизации социального положения и жизненных возможностей индивида, чем организующим ориентиром его мотивов, ценностей и поведенческих установок.
Иначе обстоит дело в тех случаях, когда самоотнесение к среднему классу становится предметом активной рефлексии человека, так сказать, принимается им близко к сердцу и явно имеет для него фундаментальное психологическое значение. С таким явлением мы встречаемся во многих тюменских «рефлективных биографиях», а также и у некоторых наших респондентов. Так, 28-летний финансовый директор финансово-промышленного концерна из Нижнего Новогорода на вопрос интервьюера, к какой социально-профессиональной группе он себя относит, прямо называет «средний класс». И далее сам определяет эту группу не по уровню дохода или по профессии, образованию и квалификации, но по более личностному критерию ~ «общим чертам характера» (большинство других респондентов называли в качестве «своей» группы интеллигенцию, инженерно-технических работников, медиков и т.п.) (интервью осени 1999 года). В ходе опроса менеджеров в июле 2000 года 38-летний генеральный директор акционерной торговой компании, относящий себя к высшему среднему классу, критерии идентификации, названные в анкете, дополнил своим: «подтвержденная жизненная активность и экономический оптимизм».
В подобных суждениях средний класс ~ это не только социально-стратификационная, но и ценностная категория; на первый план в ряду его признаков выдвигаются определенные черты психологии, характера, поведения, которыми должны обладать люди, к этому классу принадлежащие. Иными словами, к материальным и иным «объективным» критериям (образование, квалификация, характер выполняемой работы и т.д.) добавляется критерий нормативно-ценностной.
Весьма широко и детально данный критерий обосновывают авторы «рефлективных биографий», опубликованных тюменскими социологами. Здесь, несомненно, сказались цели и соответствующая им технология исследования: его инициаторов, как отмечалось выше, как раз и интересовало прежде всего ценностно-нормативное измерение среднего класса. Но важно, что их подход встретил весьма активный отклик у многих респондентов ~ участников исследовательского проекта.
В цитированных выше «рефлективных биографиях» мы обнаруживаем целый набор поведенческих и нормативных, ценностных и морально-этических характеристик, которые их авторы приписывают среднему классу. Напомним их вкратце. Это преданность своему делу, трудолюбие и стремление к успеху, основательность, рационализм и умеренность, независимость и любовь к свободе, социальная солидарность, готовность помогать обездоленным. И на одном из первых мест ~ уважение к закону, подчинение социальным нормам. В некоторых высказываниях отчетливо звучит мотив особой ~ одновременно стабилизирующей и инновационной социальной миссии среднего класса, представление о нем как о «стержне общества» («если не мы, то кто?», как сказала одна из участниц исследования).
Интересно, что готовность идентифицировать себя со средним классом и описывать его в приведенных апологетических терминах проявляют главным образом те представители тюменской элиты, которые связаны с относительно новыми или сильно модифицированными по сравнению с советским периодом формами деятельности. В их числе, например, основательница вуза нового типа ~ специалист по социальному менеджменту; бизнесмен, ставший либеральным политиком; основатель и главный редактор независимой газеты; представители исполнительной власти (мэр, заместитель губернатора), руководящей городом и областью, благополучие которых зиждется на мощном частном секторе. Своего нынешнего положения они достигли в годы реформ, и у всех у них успех профессиональной деятельности так или иначе зависит от умения «вписать» ее в новые условия, созданные рыночными отношениями.
Напротив, те тюменцы, которые отказываются от самоидентификации со средним классом или считают ее для себя чем-то второстепенным ~ это в основном представители более традиционных, менее модифицировавшихся в современных условиях профессий: школьный преподаватель, ученый-академик, врач-исследователь, художник, прокурор, профессор права, достигшие своего нынешнего социального и профессионального статуса еще в советское время. А также люди с сильно выраженной установкой на индивидуальную самоценность, психологически не нуждающиеся, по их собственным заявлениям, в принадлежности к какой-либо большой социальной группе.
Характерен в этом отношении пример директоров двух тюменских промышленных предприятий. Один из них ~ директор с 1990 года булочно-кондитерского комбината ~ добился подъема своего предприятия из кризисного состояния в процветающее, радикально перестроив производство и, главное, создав сеть собственных магазинов. Он считает себя «типичным представителем» верхнего слоя среднего класса, а в профессиональном плане ~ управленцем, менеджером. Другой ~ директор моторного завода. Занимает этот пост с 1983 года. Он, разумеется, тоже стремится эффективно работать в новых, рыночных условиях, пытается «понять происходящие изменения, приспособиться к ним». Но считает себя, прежде всего, не менеджером-рыночником, а инженером. А инженер, по его словам, ценен знаниями, «которые совершенно не зависят от того, ведется ли в стране плановое хозяйство или действует рыночная экономика». Этот директор ранее не задумывался о своей принадлежности к среднему классу [4, с. 62 и далее, с. 99 и далее].
Все эти сопоставления позволяют предположить, что для тюменских профессионалов, склонных к апологетике среднего класса и к рефлексиям по поводу его миссии и морально-этических достоинств, смысл самоотнесения к нему не сводится просто к самоотождествлению с какой-то стратой объективно существующей социальной структуры. Это самоотнесение отвечает некоей их насущной потребности, и речь идет, скорее всего, о потребности в легитимизации собственной социальной ситуации и практики.
Эта потребность действительно актуальна для российских специалистов, «вышедших на рынок» ~ будь то в качестве бизнесменов, представителей властных структур, менеджеров частных, приватизированных или государственных предприятий, журналистов, руководителей коммерческих медицинских и учебных заведений нового типа. В условиях еще весьма слабой легитимизации рынка и бизнеса в общественном (массовом) сознании им достаточно трудно представлять себя ~ как окружающим, так и самим себе ~ только в качестве «деловых людей». Да они и не являются только таковыми, выполняя в подавляющем своем большинстве профессиональные и социальные функции, отнюдь не сводящиеся к эффективной деятельности на рынке. Но в то же время они не ощущают себя и не являются в действительности только интеллигентами, научно-техническими работниками, медиками, профессорами или руководителями в привычном смысле этих понятий. Их новые функции, мотивы и цели их деятельности, а нередко и новый образ и стиль жизни требуют иных категорий и понятий, способных символизировать легитимность и позитивное социальное значение (функциональность) их роли и места в обществе. А также легитимность получаемого за эту деятельность вознаграждения: не случайно многие тюменские представители среднего класса с пафосом говорят о материальном достатке, «буржуазности» как ценностях, требующих признания в условиях свободного, порвавшего с лицемерной социалистической идеологией общества.
Категорией (или кодом, по терминологии Бурдье), наиболее адекватно удовлетворяющей эту потребность в символизации новых жизненных практик, нового хабитуса, и стал для них средний класс. И именно потому, что она выполняет легитимирующие функции, эта категория должна быть насыщена определенным нормативным и ценностным содержанием: ведь легитимная ситуация и деятельность немыслимы без выполнения кодекса норм и следования ценностям, этой ситуации и этой деятельности соответствующим. Категория среднего класса приобретает для представителей этих слоев психологический смысл, сходный с тем, который понятия «noblesse» (знать), «дворянство», «джентльмен» имели для представителей элитных групп европейских обществ или «пролетариат» для представителей революционной марксистской культуры. И она очень близка к тому смыслу понятия «средние классы», который оно в свое время приобрело, как отмечалось выше, в обществах модерна.
Вместе с тем значение этой категории не ограничивается легитимизирующими, «оправдательными» функциями. Тот кодекс поведения, «правила игры», который формулируют для себя представители данной группы российского среднего класса, ~ свидетельство происходящего в их среде процесса формирования группового самосознания и ценностей новой субкультуры. Это культура профессионалов-трудоголиков и вместе с тем людей активных, энергичных, предприимчивых, рациональных, способных к разумному самоограничению, но сознающих свое право на материальный достаток и комфорт, на прочие радости жизни. Устойчивость завоеванных социальных позиций и возможность передавать их следующим поколениям для них важнее сиюминутного успеха и материального потребления; многие представители данного слоя считают вложение капитала в хорошее образование для детей существенным признаком среднего класса. Индивидуальная автономия и самореализация принадлежат к числу их центральных ценностей, но не менее важны для них семья и Родина: они считают себя патриотами, работающими на благо России.
Именно ценностная основа культуры занимает центральное место в том процессе культурного творчества, который осуществляют люди из данной группы среднего класса. Значительно меньше прослеживается в нем формирование той культуры повседневности, которая проявляется в образе и стиле жизни за пределами сферы трудовой деятельности. Несомненно, эта сторона групповой субкультуры тоже конструируется: многие участники тюменского исследования и опроса менеджеров говорят об особом типе потребления и досуга (например, об отдыхе за рубежом), характерном для среднего класса, но, как мы видели, лишь меньшинство его представителей считают образ и стиль жизни существенным признаком.
В этом пункте, может быть, наиболее рельефно проявляются как сходство, так и различия между зарождающимся в России средним классом (точнее, его наиболее оформившейся, «авангардной» частью) и «средними классами» западных обществ. И в том, и в другом случае материальное и культурное потребление символизирует социальную (классовую) идентичность, «дистинкцию» ~ т.е. служит средством, с помощью которого социальные группы отличают себя от других и утверждают свою «особость». Бурдье, детально исследовавший данный феномен в условиях западного (французского) общества, противопоставляет, в частности, особенности стиля жизни и потребления буржуазии культуре низших классов, характеризуемой, с его точки зрения, сочетанием вынужденного аскетизма и неоправданной распущенности. Отличительной чертой буржуазного стиля жизни он считает сочетание непринужденности и выборочного аскетизма, выступающего в качестве намеренного самоограничения, экономии средств, сдержанности, осторожности, которые утверждают себя в той абсолютной степени совершенства, какую представляет собой «расслабленность в напряженности». Между этой буржуазной культурой и культурой «народных классов» находится «промежуточная культура», «обреченная казаться претенциозной из-за несоответствия амбиций и возможностей, которое в ней проявляется». Так, например, в манере одеваться, свойственной «средним классам», на первый план выступает их стремление «казаться», а не «быть», что выражает принципиально иное их ~ по сравнению с «народными классами» ~ мировоззрение; для последних приоритетом является именно «быть», что обусловливает «реалистический, или, если угодно, функциональный» выбор одежды [75, p. 196, 222, 223].
Несомненно, все эти тенденции нетрудно выявить и в культурной практике как «новых русских», так и представителей наиболее благополучных слоев российского среднего класса. Факт демонстративного ~ или престижного ~ потребления в этой среде достаточно хорошо известен. Один из наших респондентов ~ молодой менеджер частного концерна ~ еще не может позволить себе приобрести собственную квартиру и выезжать с семьей на отдых, но уже приобрел дорогую иномарку «Вольво». К такому образу жизни, который, как отмечал Бурдье, сочетает в себе напряженность, предельную самоотдачу в труде и максимально комфортную расслабленность в досуге, явно стремятся многие высококвалифицированные профессионалы из Тюмени.
В то же время, насколько позволяют судить наши данные, существуют кардинальные различия между культурными практиками западных «средних классов» и даже наиболее близкими к ним российскими социальными слоями. Различие это заключается прежде всего в месте и роли такого рода практик в символизации их социальной идентичности и «дистинкции». И определяется оно различным содержанием, которое имеют сами понятия «класс», «слой», «социальная группа» в западном и отечественном контексте. Бурдье исходит из представления об «объективном классе» как «совокупности агентов, находящихся в гомогенных условиях существования, ...продуцирующих гомогенные системы диспозиций, порождающие сходные практики, ~ совокупности, обладающие комплексами общих объективированных свойств. Социальный класс не определяется ни каким-либо одним свойством..., ни суммой свойств, ни их целью, организованной на основании одного фундаментального свойства (положение в производственных отношениях), их обусловливающего, но структурой отношений между всеми существенными свойствами, которая наделяет каждое из них и воздействие, оказываемое им на практику, своим особым значением» [75, p. 112, 117, 118].
Таких обладающих развитой, жесткой структурой свойств социальных образований в России просто не существует. Они только складываются, как складывается и вся новая социальная структура. Поскольку речь идет об «авангардных» группах возникающего среднего класса, решающую роль в их становлении и в формировании их идентичности играет профессиональная и экономическая практика этих групп, а культурная практика и стиль жизни выступают пока лишь как вторичный, производный момент этого процесса. В условиях глубокого структурного кризиса социально-экономических отношений российским представителям нового среднего класса важно прежде всего подтвердить легитимность и социальную значимость целей и способов своих действий в профессиональной и экономической сферах, поэтому ценности, регулирующие эти действия, играют решающую роль в их культурном творчестве. В то время как для их западных гомологов гораздо более важно подтверждение стабильности уже завоеванного ими места в социальной структуре и легитимности тех притязаний, которые стимулирует это относительно стабильное положение, и эту стабильность они символизируют демонстрацией своих особых, свойственных именно им устойчивых культурных предпочтений и стиля жизни.
Для понимания особенностей формирования данной группы российского среднего класса несомненный интерес представляет работа В. Бакштановского и Ю. Согомонова «Этос среднего класса» [5]. Являясь продолжением инициированного авторами эмпирического исследования ~ неоднократно упоминавшейся выше серии «рефлективных биографий» ~ она занимает особое место в отечественной литературе о среднем классе. Книга имеет подзаголовок «Нормативная модель и отечественные реалии», что вполне соответствует ее содержанию. Определяя свою позицию как «телеологическую», исходящую из предположения, что «становление, консолидация, онтологическое укоренение среднего класса» являются целью модернизации, авторы выступают против «гравитации объективистского подхода», т.е., по сути дела, против акцента на исследовании среднего класса как объективного социально-экономического или социально-структурного феномена. Этот подход они предлагают заменить комплиментарным, «а в его рамках ~ акцентированием роли этоса, «духа» и «правил игры» среднего класса», и его становление рассматривать «на основе изменений его культурных, нравственных характеристик», в которых авторы, меняя местами «базис» и «надстройку», видят детерминант всего процесса
В действительности, хотя исследование таких изменений занимает значительное место в работе Бакштановского и Согомонова и представляет самостоятельный интерес, не оно является главной целью работы. Эта цель вообще не сводится к анализу эмпирических данных: в постулированном сочетании «нормативной модели» с «реалиями» приоритет, несомненно, отдается первой его части. Согласно декларации авторов, они используют тактику «восхождения от теории к случаю, т.е. к социальному феномену» [5, с. 17, 41]. Эта тактика используется для построения нормативной модели класса и его этоса, что и является основной целью всего исследования.
У нас еще будет случай вернуться к содержанию этой модели и к ряду интересных и плодотворных идей книги Бакштановского и Согомонова. Здесь же важно отметить весьма оригинальное ее качество: она представляет собой не только и, возможно, не столько научно-аналитическое исследование среднего класса, сколько концентрированное выражение того процесса культурно-ценностного творчества, который, как отмечалось выше, призван легитимизировать и возвести в нормативно-ценностную систему цели и способы его практической деятельности. И содержит она, в сущности, не только идеотипический (в веберовском смысле) образ этого класса, но и попытку сформулировать его идеологию. Последнее весьма примечательно: в той конкретной социально-исторической ситуации, в которой происходит формирование российского среднего класса, его культурное творчество естественно переходит в творчество идеологическое. К этому побуждает и атмосфера идеологического вакуума, характеризующая современное российское общество, и инерционное влияние идеологии рухнувшей в 1980~1990-х годах системы, представляющее собой один из наиболее серьезных барьеров на пути формирования нового среднего класса.
Здесь стоит еще раз напомнить: реальную потребность в подобной нормативной модели и в собственной идеологии испытывает лишь небольшая часть как «объективного», так и «субъективного» среднего класса. Это та его часть, которая состоит из людей, не просто относимых или относящих себя к социальной середине, но ощущающих себя творцами собственных судеб, субъектами, или акторами, способными независимо от объективных условий сформировать свою индивидуальную ситуацию в соответствии с иерархией своих потребностей. Их хабитус ~ это не просто «подгонка диспозиции к позиции», но и «подгонка» ее к силе собственной личности, ее внушительному интеллектуальному и культурному капиталу.
Другую, возможно, намного большую часть среднего класса составляют те его представители, «срединное» положение которых отражает лишь близкий к минимальному уровень практической и психологической адаптации к трансформирующейся и ломающейся действительности; их жизненная практика и сознание несут на себе печать не столько субъектов, сколько объектов, часто жертв этой трансформации. В столь разительных отличиях разных типов идентичности нет ничего удивительного: коль скоро гетерогенность среднего класса является ныне почти аксиоматической истиной, столь же гетерогенной должна быть и его идентичность.
Глава II
МЕЖДУ «СТАРЫМ» И «НОВЫМ» СРЕДНИМ КЛАССОМ
ЧТО ПРОИЗОШЛО С СОВЕТСКИМ «СРЕДНИМ КЛАССОМ»?
Американский исследователь среднего класса в советской и постсоветской России Г. Балзер отмечает, что введенные в свое время Райтом Миллсом применительно к западному обществу понятия «старого» и «нового» среднего класса в постсоветском обществе оказались «поставленными на голову». Для Миллса «старый» средний класс ~ это предприниматели («группы промышленников и коммерсантов»), а «новый» ~ «белые воротнички», наемные квалифицированные специалисты. В постсоветской России эти понятия имеют прямо противоположный смысл: посткоммунистический «новый средний класс» соответствует «старому среднему классу» Миллса. Что же касается «старого» советского среднего или «просто» среднего класса, то это, по Балзеру, «40 миллионов профессионалов со специальным образованием», в том числе «высокопоставленные партийные функционеры, управляющие в сфере экономики, ученые, официально признанные художники, писатели и другие деятели культуры, а также «сторублевая» интеллигенция, включающая учителей, врачей и других советских профессионалов. Наиболее многочисленной группой были инженеры, весьма разнородная категория ~ от технических директоров крупных предприятий до «инженеров по социалистическому соревнованию» [73, p. 165, 166, 168].
Подобная столь расширительная трактовка советского «среднего класса» (от высокопоставленных партфункционеров до рядовых учителей и инженеров), очевидно, построена на двух методологических посылках,основывающихся на опыте западных обществ и его интерпретации социологической наукой. Во-первых ~ на представлении о среднем классе как о разнородной общности «ни особенно богатых, ни особенно бедных», противопоставляемом вульгарно-марксистскому представлению о неуклонно возрастающей социальной поляризации капиталистического общества. Во-вторых ~ на типичном для западной (в основном, англосаксонской) эмпирической и теоретической социологии противопоставлении классовой ситуации работников физического и нефизического, или умственного, труда («синих и белых воротничков»), относимых соответственно к рабочему и среднему класса (., например, книгу Э. Гидденса [81].)м. В западных работах послевоенных десятилетий отмечалось, что в странах «государственного социализма» растет численность и удельный вес массовой интеллигенции, что этот рост сопоставим с ростом «нового среднего класса» на Западе, хотя он и не ведет к аналогичным социальным последствиям, поскольку при социализме материальное положение рядовых работников умственного труда часто было хуже, чем квалифицированных рабочих [81, p. 233~236].
В отечественной научной литературе понятие «средний класс» применительно к социальной структуре позднего советского общества появилось лишь в период перестройки, когда общественную мысль стала волновать проблема радикального преобразования существующего экономического и социального строя, его сходства и различий с развитыми обществами Запада. Авторы, оперировавшие этим понятием и взявшие на вооружение подходы западной социологии, исходили в анализе социальной структуры из очевидного факта формирования в советском обществе некоего среднего материально-потребительского нормативного стандарта, рассматривая уровень его доступности для тех или иных слоев как существенный фактор социальной дифференциации. При этом количественные параметры такого стандарта оценивались по-разному, и, соответственно, весьма различными величинами определялись численность и удельный вес советского среднего класса. Так, Е.Н. Стариков относил к этому классу имеющих благоустроенную квартиру, машину, полный набор бытовой техники и определял его удельный вес в 13% населения. Другие исследователи расширяли численность среднего класса до 20~30% или даже до «большинства населения» [55, c. 192~196; 40, c. 3~14; 32, c. 110~130].
В наиболее фундаментальных и теоретически разработанных концепциях социальной структуры советского общества в основу ее анализа закладывались совершенно иные методологические принципы. Их авторы исходили, в сущности, из посылки об уникальности социальных отношений и цивилизационных основ «реального социализма», делающей невозможным анализ социальной стратификации советского общества в терминах, чаще всего используемых западной социологией, прежде всего по критерию уровня дохода и потребления. Так, в монографии Т.И. Заславской и Р.В. Рывкиной «Социология экономической жизни», вышедшей в 1991 году, социальная структура советского общества представлена как своего рода переплетение или взаимное наложение ряда подструктур, в том числе профессионально-должностной, социально-трудовой (по месту работы), социально-территориальной, этнодемографической. Каждая из этих подструктур выступает в качестве относительно самостоятельного фактора социальной дифференциации, социального статуса и экономического положения людей, причем размер денежного дохода (зарплата) является лишь одним из многих таких факторов; не меньшую, если не большую роль играют доступность дефицитных материальных и иных благ и различного рода привилегий, в свою очередь зависящих как от занимаемого человеком места в должностной иерархии, так и от особенностей ситуации трудового коллектива, места проживания и т.д. и т.п.
Многообразие подобных дифференцирующих факторов обусловливает чрезвычайную дробность социальной структуры: Заславская и Рывкина выделяют 78 различных социальных групп, отмечая при этом, что даже столь дробное деление является недостаточным, «чересчур огрубленным» [26, c. 407~409, 420]. Предлагаемое авторами детальное описание типов потребления и образа жизни 15 из этих групп особенно наглядно иллюстрирует специфику социальной дифференциации советского общества, неприменимость к ее анализу «западных» категорий типа «среднего класса». В любой западной стране семьи с одинаковым уровнем доходов располагают ~ или по меньшей мере могут располагать ~ сходным набором материальных благ и услуг. В описании же 15 «советских» групп, которое дается в цитируемой книге, мы находим такие дифференцирующие признаки, как: «бесплатные блага из общественных фондов потребления»; «приобретение потребительских товаров по льготным ценам»; оплата труда зарубежной валютой или чеками Внешторгбанка; возможность давать образование детям в привилегированных вузах; «невидимые доходы». Это также использование в личном потреблении социально-бытовой инфраструктуры организаций или возможность, «подмазывая» нужных людей..., получать нужные социальные блага»; это доход от личного хозяйства; «возможность получения льготных услуг», зависящая «от типа трудового коллектива (престижности ведомства, масштабов предприятия и пр.)»; талоны на покупку дефицита; предоставление жилья; приработки на стороне; хищения и продажа на сторону производственных материалов и оборудования; перепродажа товаров, имеющихся в одних местах и дефицитных в других; внутригрупповой обмен товарами, повышающий покупательную силу рубля [26, c. 411~419].
Описанный таким образом тип социальной структуры, обусловленный, несомненно, хорошо известными особенностями экономики и социальной организации «реального социализма», несет в себе одновременно черты определенного архаизма, напоминает чем-то структуру докапиталистических традиционных обществ ~ то же многообразие реальных статусов в рамках больших сословий или «классов», правда, не формализованное, как в традиционных обществах, где существовало множество типов социальной зависимости и степеней свободы (рабы, вольноотпущенники, свободные граждане и неграждане ~ в античном полисе; крестьяне и феодалы, члены более или менее привилегированных цехов и внецеховых групп ~ в эпоху европейского Средневековья). Общей основой подобных социальных структур является, очевидно, неразвитость доминирующего дифференцирующего фактора ~ «всеобщего эквивалента», в качестве которого в условиях развитой рыночной экономики выступают деньги. Понятно, что в обществах такого рода выявление некоего, пусть внутренне гетерогенного, но объединенного, прежде всего, этим эквивалентом «среднего класса» является достаточно затруднительным. И этот класс действительно не фигурирует в концепции Заславской и Рывкиной.
В более поздней работе, 1993-го года [24], Заславская дает более агрегированную картину социальной структуры советского общества, объединяя десятки ранее выделенных групп в четыре укрупненные страты. Здесь уже находит свое место и средний класс, но не в качестве той большой, обладающей «средним» экономическим и социальным положением общности, какой видят его Балзер и цитированные выше отечественные авторы, но как относительно немногочисленный слой, включающий директорский корпус и часть интеллигенции и расположенный в системе социальной иерархии между правящей номенклатурой и «низшим классом» наемных работников (рабочих, колхозников, массовой интеллигенции) [24, с. 3~4]. Очевидно вместе с тем, что в основе подобной классификации лежит тот же профессионально-должностной (а не «доходный» или «потребительский») критерий, который выступал в качестве доминирующего в монографии 1991 года.
Отсутствует средний класс и в другой концепции социальной структуры советского общества, обоснованной В.В. Радаевы (а изложена в труде В.В Радаева и О.И. Шкаратана «Социальная стратификация» [50], гл. II «Социальная стратификация в обществах советского и постсоветского типа» (с. 197~216) написана Радаевым.)м. В отличие от Заславской и Рывкиной, опирающихся на принцип множественности критериев социальной дифференциации, этот автор основным критерием считает «распределение власти, понимаемой в веберовском смысле как способность социального субъекта (индивида, группы) осуществлять свои интересы безотносительно к интересам других социальных субъектов» [50]. В обществе советского типа все прочие, по сравнению с этакратическим, виды стратификационных систем занимают подчиненное положение. Стратификация реализуется посредством утверждения системы рангов, которая строится на сочетании рангов корпоративных и персональных. Иными словами, социально-экономическое положение человека определяется, во-первых, его принадлежностью к одной из корпораций, имеющих неодинаковый доступ к власти и даваемым ею благам, во-вторых, его иерархическим положением в этой корпорации (т.е. предприятием, в котором он работает, и занимаемой должностью). Радаев делит советское общество по этим критериям на пять основных страт: (1) правящие слои (от политического руководства до руководителей крупных предприятий и учреждений); (2) передаточные слои (руководители и функционеры среднего уровня); (3) исполнительные слои (рядовые специалисты, рабочие, служащие); (4) «иждивенцы» (учащиеся, пенсионеры); (5) «парии» (люмпены, заключенные).
Несмотря на различие методологии и терминологии двух концепций (у Заславской и Рывкиной ~ значительная множественность критериев стратификации, у Радаева ~ их жесткое подчинение основному ~ этакратическому ~ принципу) обе они, в сущности, подводят к очень близким заключениям. Это относится, прежде всего, к составу и границам выделяемых больших страт: в обеих концепциях фигурируют правящий номенклатурный слой и социальное дно («парии»); «передаточные» и «исполнительные» слои Радаева весьма напоминают соответственно средний и низший классы Заславской. Похожую картину социальной стратификации общества советского периода дает и Н.Е. Тихонова, полагающая, что тогда оно разделялось на две основные группы: управляющие и управляемые. К первой относился и «сравнительно небольшой» средний класс, включавший «руководство предприятий, высококвалифицированных специалистов (прежде всего творческую интеллигенцию и работников ВПК), а также тех работников, основная деятельность которых была связана с системой распределения» [56, с. 21, 22].
Понятно, что противоположные представления о природе средних звеньев в социальной структуре советского общества имеют самое близкое отношение к проблеме формирования среднего класса в постсоветский период. Если согласиться с точкой зрения Балзера и ряда отечественных авторов о наличии относительно обширного советского среднего класса, выделяемого по критериям, близким к западным, то центральным пунктом поставленной проблемы становится судьба этого «старого» среднего класса в условиях «трансформирующегося российского общества, его роль как источника конституирования определяемой данным понятием новой социальной общности». Если же придерживаться позиции Радаева, формирование среднего класса как органического компонента социальной структуры, основанной на рыночной экономике, следует рассматривать как процесс, начинающийся в постсоветский период почти с нуля.
Как представляется, адекватное решение обозначенной проблемы предполагает определенный компромисс между этими позициями. Тем более что в действительности они вовсе не столь несовместимы, как это кажется на первый взгляд, а скорее раскрывают разные аспекты одной и той же позднесоветской социальной действительности. В концепциях Заславской и Радаева, несомненно, отражены ее основополагающие структурные принципы, сохранявшие свое значение на всем протяжении существования советского общества. У Радаева эти принципы формулируются в более жесткой и однозначной форме, у Заславской ~ в виде более артикулированной и сложной по своему строению модели. Но и в том, и в другом случаях описывается социальная структура, которая строится, по удачной формулировке Тихоновой, «на слиянии властных отношений с отношениями собственности», «ее реальную основу составляет место в процессе нетоварного перераспределения, отношение к контролю над каналами распределительной сети» [56, с. 21]. Поскольку в этих концепциях анализируются именно структурные принципы социальной дифференциации, их можно рассматривать как описывающие социальную структуру советского общества в статике.
Концепции, предлагающие расширительное и «экономическое» понимание советского среднего класса (не как промежуточного звена властной иерархии, а как группы, выделяемой по признакам характера труда, уровня дохода и потребления), в сущности раскрывают (хотя и без особенно глубокого теоретического обоснования) динамику социальной структуры в 1960~1980-е годы. С одной стороны, в этот период идет, как и во всех индустриально-развитых странах, процесс повышения удельного веса в социальной структуре специалистов (по советской терминологии, массовой интеллигенции), формальным признаком статуса которых является диплом высшей школы. Несомненно, отмеченные выше фундаментальные особенности советской социальной структуры сказываются на положении этого слоя: инженеры, врачи, учителя, находящиеся за рамками привилегированных секторов производства и социального обслуживания, по своему материальному положению и социальному престижу сплошь и рядом оказываются ниже рабочих ВПК или работников торговли. Тем не менее, численность массовой интеллигенции превращает ее в крупную социальную общность, которую становится все труднее рассматривать как некую межклассовую «прослойку», эта общность приобретает черты стабильности и относительно устойчивые границы. «Рабоче-крестьянская интеллигенция», формировавшаяся в первые десятилетия советской власти в результате резкого расширения каналов вертикальной социальной мобильности, все более уступает место самовоспроизводящемуся слою работников умственного труда, чьи дети образуют основную массу получающих высшее образование. Если не жизненный уровень, власть и престиж, то знания и содержание труда являются фактором, выделяющим их в собственном и отчасти в общественном сознании из общей массы «рядовых исполнителей» или «низшего класса», фактором, не подрывающим, но все же несколько корректирующим этакратические принципы социальной структуры.
Еще большее значение имели сдвиги в структуре личного потребления и материальных потребностей советских людей, придававшие советскому обществу ~ во всяком случае, в социально-психологическом плане ~ некоторые черты «общества массового потребления». Внедрение в быт товаров длительного пользования ~ холодильников, телевизоров и другой современной бытовой техники ~ повышало роль в материальной жизни советских людей личной собственности, нарушало в известной мере монополию распределения по этакратическим статусам. Собственный автомобиль все более успешно конкурирует с персональной машиной, предоставляемой особо привилегированным функционерам, собственная дача или садовый участок ~ с госдачей, кооперативная, приобретенная на собственные деньги квартира ~ с подаренной корпорацией или органом власти. Эта «приватизация» реального потребления и еще больше ~ массовых потребительских аспираций, формирование определенного «среднего» потребительского стандарта, независимо от численности достигших его людей, проводит новые разделительные линии в обществе. Те, кто обладает этим стандартом или включает основные его компоненты в свои более или менее реализуемые жизненные проекты (например, копит деньги на дачу, квартиру, машину), образуют общность, не вполне вписывающуюся в этакратическую социальную структуру (хотя во многом и подчиненную ей). Так в недрах и порах этой структуры формируется своеобразный советский протосредний класс, несомненно радикально уступающий западному и по реальному жизненному уровню, и по удельному весу, но дифференцирующийся от низших социальных слоев по сходным признакам.
Как отмечает Тихонова, наиболее «расширительные» социологические трактовки советского среднего класса, включавшие в него до 60% населения, были не столько основаны на определенных имущественных стандартах, сколько отражали «настроение самого населения, считавшего, что средний класс ~ это жить как все» [56, с. 21]. Последнее не вполне точно: выше приводились данные опросов ВЦИОМ, показывающие, что деление общества на подобные вертикальные страты даже в конце перестроечного периода отвергалось большинством советских людей. Но Тихонова права, отмечая «настроение самого населения» в качестве одного из возможных критериев выделения советского протосреднего класса.
Здесь следует напомнить то, о чем говорилось в вводной главе: сама категория «средний класс» выполняет и в научном, и в обыденном языке аналитическую служебную роль, обосновывая определенные представления об уровне социальной конфликтности в обществе и тенденциях массового социально-политического поведения; поэтому не поддающиеся сколько-нибудь строгой квантификации социально-психологические и поведенческие параметры среднего класса определяют его не в меньшей, а то и в большей мере, чем более жестко квантифицируемые параметры экономические. Во всяком случае, понимание среднего класса как социально-психологической общности имеет не меньшее право на существование, чем его социально-экономическая трактовка. И с этой точки зрения тип самосознания, при котором человек ощущает себя достигшим или способным в обозримом будущем достигнуть определенного нормативного, т.е. соответствующего средним общественно признанным стандартам и поэтому удовлетворительного уровня потребления, образа жизни и жизненного цикла для себя и своих детей (средняя школа~институт~служебная карьера), является существенным признаком среднего класса.
Несомненно, в условиях экономики дефицита, весьма низкого уровня доходов большинства специалистов и этакратических принципов распределения достижение такого стандарта для большинства представляло собой крайне трудную и во многих случаях не решаемую в полном объеме проблему. Все это порождало конфликт советского протосреднего класса с существующей системой, латентное социальное недовольство и оппозиционность, обусловившие весьма высокую ~ на первых порах ~ популярность в его среде реформаторского дискурса Горбачева. В то же время трудности и барьеры на пути к признаваемому в принципе достижимым стандарту во многих случаях повышали психологическую силу, интенсивность соответствующих аспираци (помним, что психологические теории потребностей [83; 84] доказывают особо высокую притягательную силу (валентность) предметов потребностей, отделенных от субъекта барьерами или дистанциями средней величины.)й, и приобретение дефицитного или дорогого блага, вписываясь в ряд центральных жизненных целей человека, становилось для него символом социального статуса и достоинства.
Описанный тип хабитуса, т.е. подгонки аспираций к возможностям (точнее ~ к социальным представлениям о возможном) материального потребления и образа жизни, образовывал одну из основ самовыделения (дистинкции) среднего класса, члены которого, не осознавая себя принадлежащими к нему, тем не менее, отделяли себя от тех, кто такими возможностями ни объективно, ни субъективно не обладал. Другой такой основой были, как отмечалось выше, характер и содержание труда: относительно независимый, творческий труд образованного специалиста или высококвалифицированного («интеллигентного») рабочего противопоставлялся труду неквалифицированному, всецело подчиненному ~ простых «работяг», колхозников, рядовых канцелярских служащих. В одних ситуациях (например, у высокооплачиваемых специалистов и рабочих) обе эти основы совпадали, в других ~ при высоких доходах от труда, не требующего особого образования и знаний, и при низкой оплате труда, квалифицированного и сопряженного с высокой ответственностью, ~ они расходились. Это несоответствие было одним из проявлений гетерогенности советского протосреднего класса и порождало взаимное отчуждение и напряженность между различными его группами. Так, работник торговли мог презирать «нищего интеллигента», а последний отвечал ему тем же, видя в нем жадного и жуликоватого «торгаша», паразитирующего на дефиците и блате.
Судьба этого советского протосреднего класса в условиях рыночных реформ 1990-х годов достаточно хорошо известна, описана в многочисленных научных и журналистских публикациях. Наиболее многочисленные его группы, не имевшие властного ресурса и связанные с видами деятельности, финансируемыми из государственного бюджета (здравоохранением, образованием, фундаментальной наукой, обороной, а также с обрабатывающей промышленностью), стали жертвами кризиса, порожденного развалом социалистической экономики и сокращением финансовых ресурсов государства, последствиями приватизации. Рядовые преподаватели, врачи, научные работники столкнулись с резким сокращением своей реальной зарплаты, которая и раньше была невелика, в лучшем случае позволяла им удерживаться в низших стратах советского протосреднего класса. Многочисленные промышленные предприятия закрывались или сокращали производство, ушло в прошлое привилегированное положение многих промышленных и научно-промышленных корпораций, входивших в мощный советский ВПК, занятые в них специалисты теряли работу или получали крайне низкую и нестабильную заработную плату. В середине 1990-х годов все эти слои столкнулись с явлением невыплаты зарплаты. Деградация материального положения и размывание советского протосреднего класса стала одним из наиболее заметных социальных последствий данного этапа перехода от государственно-социалистической к рыночной экономике.
На фоне этих бесспорных фактов отчасти парадоксальными кажутся данные эмпирических исследований 1990-х годов о социально-профессиональном составе тех слоев, которые по объективным показателям и (или) субъективной самооценке входят в средний класс (занимают средние иерархические социально-экономические позиции) постсоветского общества. Приведем некоторые из этих данных.
Как выглядит социально-профессиональный состав верхнего слоя среднего класса и собственно среднего класса по результатам исследования РНИСиНП 1999 года, демонстрируют таблицы 4~ (. [53, с. 91, 92, 109].)6. (Мы не учитываем здесь данных о низшем слое среднего класса, поскольку исследователи относят к нему людей, занимающих по объективным показателям и собственной самооценке третью-четвертую ступеньки десятибальной шкалы ~ позиции ниже средних в социальной иерархии.)
Таблица 4
Состав среднего класса по образовательным и профессионально-должностным статусам
| |
Верхний слой среднего класса |
Собственно средний класс |
|
Доля имеющих ученую степень или закончивших аспирантуру |
14,6% |
4,2% |
|
Доля лиц с высшим образованием |
55,2% |
59,2% |
|
Доля руководителей высшего звена и предпринимателей, имеющих наемных работников |
51,1% |
25% |
|
Доля квалифицированных специалистов |
21,9% |
30,1% |
|
Таблица 5
Доли представителей социально-профессиональных групп, входящих в средний класс
| |
Верхний слой среднего класса |
Собственно средний класс |
|
Рабочие |
2,3% |
43,1% |
|
ИТР |
2,3% |
41,8% |
|
Предприниматели |
16% |
67% |
|
Таблица 6
Доля социально-профессиональных групп в среднем классе по доходному стандарту
| |
Доля группы в среднем классе |
Часть группы, входящая в собственно средний класс и верхний слой этого класса |
|
Высококвалифицированные рабочие |
21,8% |
25,2% |
|
ИТР |
11% |
21,9% |
|
Гуманитарная интеллигенция |
7,7% |
32,1% |
|
Работники торговли |
11,5% |
21,9% |
|
Служащие |
10,7% |
33,9% |
|
Предприниматели |
21,3% |
89,3% |
|
Руководители, администраторы |
7,6% |
53,8% |
|
Обобщая эти и другие данные, исследователи РНИСиНП заключают: «...костяк верхнего среднего класса ~ это менеджеры высшего звена и бизнесмены, имеющие собственные фирмы с наемными работниками. Отчетливо ощущается ... также присутствие высококвалифицированных специалистов, достаточно равномерно представляющих гуманитарную интеллигенцию и военных, и в меньшей степени ~ ИТР... Костяк собственно среднего класса составляют прежде всего квалифицированные специалисты, и, в несколько меньшей степени, «синие воротнички» ~ квалифицированные рабочие» [53, с. 92].
Рассмотрим теперь данные исследования ВЦИОМ о социально-профессиональном составе «субъективного» среднего класса (1998). Как и в предыдущем случае, будем учитывать лишь те из них, которые относятся (по терминологии исследователей) к средней и высшей частям «среднего слоя», «среднее» положение которых в социальной структуре можно фиксировать с наибольшей уверенностью (см. табл. 7).
Таблица 7
Социально-профессиональный состав средних слоев
| |
Руководители |
Специалисты |
Служащие |
Квалифицированные рабочие |
Неквалифицированные рабочие |
|
Средняя часть высшего слоя |
6% |
16% |
12% |
14% |
2% |
|
Высшая часть среднего слоя |
16% |
23% |
9% |
2% |
7% |
|
Приведенные данные показывают, что, во-первых, абсолютное большинство постсоветского среднего класса (слоя) составляют наемные специалисты, не занимающие высших руководящих постов и обладающие высшим образованием, служащие, квалифицированные рабочие. В наиболее многочисленном собственно среднем классе, или, по другой терминологии, средней части среднего слоя, в конце 1998 года, т.е. непосредственно после августовского кризиса, доля этих категорий оценивается в сорок с лишним процентов, в несколько «нормализовавшейся» ситуации 1999 года ~ в три четверти; в значительно более узком верхнем среднем классе она колеблется в величинах, близких к половине. Таким образом, «старый» (в российской терминологии; на Западе, напомню, он называется «новым») средний класс образует основную массу постсоветского среднего, или «эмбрионального» среднего класса. Мы не относим к этому «старому» среднему классу руководителей высшего звена, хотя в действительности многие из них обладают теми же функциями и тем же формальным социально-должностным статусом, что и в советское время. Дело в том, что в условиях перехода к рынку часть менеджеров, занятая в рыночной сфере экономики и особенно в частном секторе, сближается по характеру своей деятельности и социальным ролям с предпринимателями, и весьма трудно провести четкую разграничительную линию между этими двумя частями.
Во-вторых, преемственность между советским и постсоветским средним классом выражается не только в сходстве их социальных характеристик (наемные специалисты, работники высокой квалификации), но и в непосредственном рекрутировании второго из людей, ранее принадлежавших к первому. Об этом свидетельствует возрастной состав постсоветского среднего класса: по данным РНИСиНР в 1999 году 79,2% верхнего слоя составляли люди в возрасте старше 30 лет, т.е. в основном те, кто уже принадлежал к активному населению в начале рыночных реформ [53, с. 93]. И хотя предпринимательская и частично менеджерская часть этих слоев за истекший период изменили свое социально-профессиональное положение, большинство людей из постсоветского среднего класса, очевидно, как были в советское время, так и остались к концу 1990-х годов наемными работниками квалифицированного исполнительского труда.
И, наконец, в-третьих, то, что мы знаем о постсоветском среднем классе или называемых так слоях, позволяет точнее охарактеризовать судьбу его советского предшественника. Выше говорилось о деградации советского среднего класса. Очевидно, правильнее было бы определить испытанный им в годы рыночных реформ процесс как дифференциацию. От одной пятой до трети представителей социально-профессиональных групп, входивших в его состав, ~ специалистов с высшим образованием, служащих (кроме руководителей), квалифицированных рабочих ~ попали по объективным показателям (уровень дохода) или по самооценке в верхний и средний слои постсоветского среднего класса, остальные пополнили низший («базовый») класс и близкий к нему низший слой среднего класса постсоветского общества. Кто-то попал в высший слой ~ в деловую, бюрократическую и политическую элиту, но доля таких людей, очевидно, крайне незначительна.
По данным РНИСиНП, доля людей, связанных с государственной собственностью, составляет 29,7% среднего класса, с частной ~ 41,4%, с акционерной ~ 23%, с совместными предприятиями ~ 5,9%. Из лиц, связанных с госсобственностью, в верхний и средний слои среднего класса входят 24,7%, с акционерной ~ 30,2%, в числе лиц, связанных с частной собственностью и с совместными предприятиями, эта доля достигает 60% [53, с. 111]. По данным ВЦИОМ, 43% высшей и 42% средней части среднего слоя составляют работники государственного, соответственно 21% и 12% ~ полугосударственного, 35% и 45% ~ частного сектора экономики [36, c. 27]. Несмотря на различие видов собственности, используемых в двух исследованиях, и различие полученных данных, очевидно, что умножение и дифференциация этих видов в постсоветский период является одним из важных факторов социально-структурной дифференциации. Работник частного или полугосударственного предприятия имеет, при прочих равных, больше шансов попасть в средний класс, чем работники традиционного государственного или бюджетного сектора.
Разумеется, этот фактор не действует как некий неумолимый закон. Некоторая часть работников госсектора и «бюджетников» может быть отнесена и относит себя по вполне современным критериям к среднему классу. Обосновано выделенные Тихоновой в постсоветском обществе две социальные структуры ~ традиционная, сохраняющаяся в рамках госсектора, и зачаточная «классовая» ~ вряд ли можно, как она пишет, считать параллельными [56, с. 38, 39]: в действительности обе структуры взаимно пересекаются и переплетаются, возникает множество промежуточных, двойственных ситуаций (особенно в «теневых» сферах экономики и социальных отношений). Ниже мы познакомимся с людьми, принадлежащими одновременно к двум структурам ~ феномен достаточно типичный. Но тот факт, что они так или иначе включены в частнособственнические и рыночные отношения, во многом определяет вероятность для них остаться в среднем классе или пополнить его ряды.
О людях, вошедших в состав постсоветского среднего (или протосреднего, квазисреднего и т.д.) класса в качестве его «старой» части, т.е. без радикального изменения своей профессии и содержания трудовой деятельности, и пойдет речь в дальнейшем изложении.
ВРАЧИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ
В числе наших респондентов оказалось несколько представителей этих наиболее массовых «интеллигентских» профессий. Согласно широко распространенным и, несомненно, достаточно реалистическим представлениям, эти профессиональные группы принадлежат к числу тех, которые в наибольшей мере испытали негативные последствия кризиса старой, государственно-патерналистской системы социального обслуживания и рыночных реформ. В течение значительной части 1990-х годов невыплаты зарплаты учителям и врачам были одной из самых острых политических проблем. Уже в советские времена они принадлежали к одной из наиболее низкооплачиваемых категорий работников умственного труда, находившихся либо за гранью, либо в самых нижних стратах тогдашнего «протосреднего класса». Деградация экономического и социального положения групп, выполняющих ответственнейшие функции охраны здоровья населения и образования, стала одним из самых неприглядных и драматических аспектов постсоветской действительности.
Несмотря на очевидность этих феноменов, мы столкнулись на индивидуальном уровне ~ даже в рамках нашей крайне ограниченной выборки ~ со значительным многообразием конкретных объективных (материальных, профессиональных) и психологических ситуаций, с совершенно разными уровнями и видами практической и психологической адаптации к новым условиям. Важно, разумеется, учитывать, что наши респонденты ~ жители наиболее крупных городов Европейской России, и если бы среди них оказались врачи и учителя из других регионов и российской глубинки, картина была бы, возможно, более односторонней и мрачной. Однако и на нашем географически ограниченном материале можно в какой-то степени увидеть, насколько разнообразны реакции людей на сходные ситуации и сдвиги в их положении.
Преподаватели представлены среди наших респондентов двумя женщинами-москвичками, молодой (27 лет) и среднего возраста (46 лет). Частично в силу неизбежной при столь малочисленной выборке случайности получилось так, что обе они по своей материальной ситуации представляют скорее относительно благополучное меньшинство, чем бедствующее большинство своей профессиональной группы. Старшая ~ преподаватель английского языка в весьма привилегированном в советские времена и оставшемся таким же в годы реформ ведомственном учебном заведении. Ее труд оплачивается, по ее словам, «достаточно высоко». Младшая преподает рисование в дорогой частной школе, что предполагает, очевидно, более высокую, чем в обычной государственной школе, зарплату. Она живет в семье, где среднемесячный доход на человека составлял в 1999 году 2200 руб. (что соответствует «среднеклассовым» стандартам: в 1999 году 63% относивших себя к среднему слою среднего класса имели среднемесячный душевой доход 1000~3000 руб. [53, с. 106]). Успела побывать в США и Италии, мечтает о Париже. Обе преподавательницы относят себя к четвертой-пятой ступеням социальной лестницы (старшая ~ к низшему среднему классу).
Обе женщины очень близки по типу трудовой мотивации и связанных с ней аспираций. Ее можно было бы назвать «интеллигентской»: самореализация в труде и его социальное значение важны для них не меньше, если не больше, чем его оплата; карьерные амбиции отсутствуют. Преподавательница английского языка говорит о том удовлетворении, которое получает, когда видит, что ее знания «находят применение. Я вижу реальную отдачу». Карьерные устремления она вообще считает чуждыми своей профессии: она выполняла одно время административную работу, но оставила ее, так как это мешало ей «реализоваться как преподавателю». Возможность самореализации в труде является для нее не менее значимым критерием самоотнесения к среднему классу, чем уровень дохода. Она говорит, что, если бы работала в ларьке и имела бы гораздо больший доход, «чувствовала бы себя очень ущемленной».
Молодую преподавательницу рисования ее основная работа в школе по критериям самореализации тоже удовлетворяет больше, чем по материальным. Она хотела бы получать большую зарплату, а в «плане педагогики, ~ говорит она, ~ меня все совершенно устраивает. Потому что я работаю с детьми, они дают результат, и этот результат мне нравится... Т.е. я как бы не могу сказать, что вот есть что-то, что меня очень сильно точит, чем я не удовлетворена, чтобы это было не так, а как-то иначе». Однако работа в школе для нее не единственная и не самодостаточная сфера самореализации: скорее, это все же источник приличного заработка, достигаемого ценой достаточно удовлетворяющей ее работы по избранной профессии. Кроме того, наша учительница еще и художник: свои картины ей удается время от времени выставлять и даже продавать. И, наконец, у нее есть еще одна сфера деятельности «для души»: два раза в неделю она бесплатно занимается рисованием с больными детьми в больнице. В этой работе, объясняет она интервьюеру, «для меня самое главное ... общение с этими детьми ...т.е. эмоциональная сторона... А во-вторых, чтобы они имели возможность отвлечься». И отказаться от этой работы она, по ее признанию, не смогла бы; напротив, чтобы иметь возможность ходить в больницу, она отказалась от предложения дополнительной оплачиваемой работы. «Я, ~ говорит молодая женщина, ~ люблю просто этих детей. Понимаете? Для меня любовь играет очень большую роль в жизни. Ну, я бы чувствовала себя после этого нехорошим человеком, а для меня эта самооценка очень важна».
В своей творческой художественной деятельности наша преподавательница, очевидно, хотела бы достичь большего. «Единственную перспективу, которую я для себя вижу, которая была бы лучше, чем сейчас, ~ это мой собственный как художника ... рост. Выставочная там какая-то деятельность. Там, может быть, чтобы работы покупали». Но потолок ее творческих амбиций не очень высок. «Нельзя сказать, что я человек талантливый сильно, ... какой-то там большой мастер, но бывают симпатичные работы, которые нравятся людям, а для меня это, в общем, главное... Я не честолюбива». В общем, ее занятия живописью стимулирует гораздо больше внутренняя творческая потребность, чем стремление к успеху («если я не буду писать, ну, я очень многого себя лишу, потому что все-таки чуть-чуть себя ощущаю художником»).
Несмотря на сходство профессий, трудовых мотиваций и материальных ситуаций (обе преподавательницы удовлетворены своей работой, более или менее «устроены» в современной жизни, принадлежат к числу практически адаптированных к ней), они глубоко различаются по уровню психологической адаптации, по восприятию своих отношений с социальной действительностью. И дело здесь не только в сугубо личностных различиях, в том, что младшая женщина принадлежит, возможно, в отличие от старшей, к тем, кого принято называть «богатыми, творческими натурами». Дело еще в различном жизненном и культурном опыте, разных механизмах адаптации и взаимосвязанных с ними особенностях менталитета. Старшая преподавательница крайне негативно воспринимает все изменения, происшедшие в обществе и в положении ее профессиональной группы в 1990-е годы. настроена мрачно, тревожно. Она много говорит о нищенских зарплатах учителей и преподавателей вузов, в том числе членов своей семьи ~ матери, дочери ~ и близких подруг, приводит известные ей примеры человеческих трагедий. Мрачное восприятие современной действительности тесно связано у нее с ностальгией по действительности советской. Возможно, выражая эволюцию собственных взглядов, она ведет полемику с распространенными в интеллигентской среде (и защищаемыми ее собственным сыном) представлениями о благополучии и свободе западных обществ («О каких защищенных правах там может идти речь?» ~ говорит она, вспоминая о подавлении в Англии забастовки горняков) и восхваляет социальную защищенность жителей... Арабских Эмиратов. Да и советские люди, думает она, «как оказалось, в принципе ... были достаточно сильно защищены... Нам надо очень крепко задуматься над тем, что мы потеряли». Свое собственное благополучное положение в постсоветское время она рассматривает как счастливое исключение.
Совершенно иначе оценивает соотношение настоящего с прошлым преподаватель-художница: «Мне кажется, жить стало лучше по сравнению с застойными временами». Эта позиция в интервью не аргументируется и резко противоречит другим ее суждениям. Экономическую и политическую ситуацию в стране она оценивает как «кошмар», говорит, как и преподавательница-лингвист, о нищенской зарплате и униженном положении людей интеллектуального труда. Можно полагать, что если, тем не менее, настоящее для нее лучше прошлого, в этом проявляется глубоко личностная мировоззренческая позиция: «Я, ~ говорит она, ~ такой человек, что я никогда в жизни не буду делать того, что мне не нравится». Понятно, что столь категорическая установка на личную автономию предполагает доминирующее место свободы в иерархии ее ценностей. И именно существующее ныне поле индивидуальной свободы является для нее тем критерием, по которому она отдает предпочтение настоящему перед советским прошлым.
Несомненно, здесь сказываются условия социализации и социальная среда респондентки: ее родительская семья (отец ~ профессор математики, мать ~ пианистка, профессор консерватории), круг друзей и знакомых явно входят в ареал «интеллигентской» либерально-демократической субкультуры. В отличие от нее, старшую преподавательницу ведомственная принадлежность (и, по-видимому, профессиональный статус мужа) связывает, скорее, с советским околономенклатурным кругом. Занятия искусством побуждают преподавательницу рисования ценить свободу творчества и тем самым тоже укрепляют ее приверженность к «либеральным» ценностям. Соответственно, ее политические симпатии на стороне тех, кто в ее глазах олицетворяет новую свободную жизнь, ~ Гайдара, Немцова, в меньшей степени Лужкова (которому она ставит в вину лишь то, что он связался со старым номенклатурщиком и «кагэбэшником» Примаковым).
Различия в ментальности двух преподавательниц не сводятся к противоположности политических взглядов и оценок социетальных перемен. За этими вербально выражаемыми позициями стоят разные типы практического отношения к той объективной социальной реальности, в которую включены респондентки, и, соответственно, разные типы поведенческих и адаптационных стратегий (или, выражаясь языком социальной психологии, различные конативные ~ поведенческие ~ аттитюды). Старшая преподавательница ориентирована психологически на консервацию и воспроизводство привычных компонентов собственной социально-профессиональной ситуации (хорошо оплачиваемая работа по любимой профессии), а решающие факторы такого воспроизводства она размещает вне собственной жизненной практики ~ в институционально-политической сфере. Свое собственное относительное благополучие она воспринимает как случайное именно потому, что в этой сфере никаких гарантий автоматического воспроизводства такого положения для людей своего профессионального круга, какие существовали в советском прошлом, она не видит. Остро переживать эту ситуацию ее побуждают семейные проблемы ~ она мать троих детей, и страх за их будущее ~ главный источник ее тревог и забот. Но существенно и характерно для ее ментальности то, что будущее детей она ставит в зависимость не от их способностей и собственных усилий, а от тех же социетальных институциональных факторов.
Совершенно иной, оптимистический по своему основному тонусу, настрой учительницы рисования объясняется не только ее молодостью и иным семейным статусом (она в момент интервью незамужняя, не имеет детей, живет с любящими и заботливыми родителями). Дело еще в том, что свою судьбу она ставит в зависимость главным образом от собственной инициативы и жизненной практики. Свой жизненный принцип она формулирует так: «старайся делать то, что ты можешь... ну что-то хотя бы». А то что она действительно делает, не сводится ни к адаптации (хотя ее работа в частной школе ~ достаточно типичный способ адаптации людей ее профессии), ни к воспроизводству укоренившихся стандартов социального поведения. Она сама творит «модели» жизнедеятельности ~ модели, соответствующие ее этическим и творческим потребностям. В том числе «модель» принципиально новую (бесплатная работа в детской больнице).
Именно эта установка на собственную, в сущности, инновационную и конструктивную жизненную активность, на индивидуальную инициативу образует наиболее глубокое отличие психологии младшей преподавательницы от старшей, преподавательницы английского, для которой судьбы людей ~ нечто зависимое от «правил жизни», установленных властью. Это различие пронизывает все уровни их отношения к окружающей действительности. Так, обеим женщинам присуща эмпатия ~ сочувствие к людям несчастным, живущим хуже, чем они, но если старшая переживает это сочувствие чисто вербально, то младшая воплощает его в доступное ей дело ~ помощь больным детям. Обе крайне негативно оценивают социально-экономическое и политическое положение в стране, но если старшая видит выход в возврате к институтам и порядкам прошлого, то младшая отводит институтам, государству вспомогательную роль, а решающую ~ активности самих людей. «Весь народ наш, ~ говорит она, ~ ...должен осознать: ...виноваты в этом мы, а не американцы, не Ельцин... а вот мы: я, вы. Там Вася, Коля, Петя. И давайте мы уже начнем что-нибудь [делать]. Вот на том месте, где мы сидим, стоим или лежим». «А государство что должно делать?» ~ спрашивает интервьюер. «Государство нам должно в этом помогать, должно обеспечить условия для того, чтобы каждый человек мог бы делать» (курсив мой. ~ Г.Д.).
Перед нами два различных типа «интеллигентской» психологии, питаемые разными культурными источниками и жизненным опытом (советским в одном случае, перестроечным и постсоветским ~ в другом: учительница рисования поступила в вуз в 1985 году) и отражающие весьма рельефно всю глубину современных межгенерационных различий в этом слое среднего класса. Но эти различия не только межгенерационные и культурные, но и, так сказать, межструктурные: используя методологию отечественных социологов (Т.И. Заславской, В.В. Радаева, Н.Е. Тихоновой) можно сказать, что старшая респондентка принадлежит социально и психологически к старой, этакратической, а младшая к новой, основанной на рыночной экономике социальной структуре. Не в том смысле, что она ориентирована на «рыночные», денежные цели и ценности, а в том, что строит свою жизнь и свою адаптационную стратегию на основе свободного индивидуального поиска и выбора, независимо от какой-либо иерархической властной структуры. При этом практическая адаптация обеих женщин основана на «вхождении в рынок», но старшая «вошла» в него в рамках своей корпорации, поскольку ее институт занялся коммерческой деятельностью, которая и образует источник ее высокой зарплаты. Младшая же действовала и действует как индивидуальный агент рынка труда. Конечно, столь последовательная корреляция экономических, социально-структурных, возрастных, культурных и психологических характеристик наших респонденток в большой мере случайна, но она может служить своего рода символическим выражением тех процессов дифференциации, которые испытывает современная российская массовая интеллигенция.
Межгенерационные различия прослеживаются, насколько позволяют судить наши интервью, и в другой ее группе ~ среди врачей. И так же, как у преподавателей, наряду с этими различиями у всех наших собеседников-медиков проявляется и определенная психологическая общность, основанная на сильной профессионально-трудовой мотивации, сознании высокого социального достоинства и значимости профессии врача. Выше уже упоминалась молодая (28 лет) врач-москвичка, которая «по самоощущению» относит себя к одной из средних ступеней социальной лестницы, хотя по объективному критерию уровня зарплаты ставит себя на низшую ступень.
О возмутительно низком уровне вознаграждения их труда говорят и другие врачи из нашей выборки. Но как и у молодой москвички, их социальное самоощущение, уровень удовлетворенности жизнью не определяется целиком этим фактором. Так, 47-летнего саратовского врача-хирурга, заведующего отделением больницы возмущает, получаемая им «ниже, чем нищенская» зарплата ~ «это отношение государства к моему труду, это отношение его ко мне как к человеку, врачу». Однако на вопрос, «как Вам живется в современной России», отвечает «fifty-fifty», говорит, что удовлетворен своей жизнью «на четверку». Относительную удовлетворенность объясняет так: «...я считаю, что чего-то добился в жизни своей работой».
Межгенерационные различия обнаруживаются и в отношении врачей к способам адаптации, которые они вынуждены использовать в условиях коммерциализации здравоохранения, а также к тому влиянию, которое эти способы неизбежно оказывают на их труд и образ жизни. Саратовский хирург считает, что зарплата у него должна быть такая, «что я не буду думать, где бы мне деньги урвать, где бы крутиться, а работал бы». Для него нормальная работа, самоотдача в труде и то, что он называет «крутиться», денежные интересы и заботы ~ вещи несовместимые. Работа как выполнение социальной функции («служение»), как самореализация и работа для денег размещаются в сознании на различных параллельных плоскостях. Такая позиция типична для традиционной массовой интеллигенции, готовой отдавать свой труд и знания обществу и рассчитывающей взамен на минимальную материальную обеспеченность.
У молодых врачей мы нередко встречаем несколько иные социально-психологические установки. Так, 24-летняя помощник врача в петербургской стоматологической клинике тоже, несомненно, любит свою работу и гордится ею. «Есть много работ, ~ говорит она, ~ которыми я могу гордиться». В работе ее больше всего удовлетворяет «элемент творчества», пломбирование зубов современными материалами и методами ей кажется «где-то областью искусства... Это действительно очень красиво». По ее оценке, 50% ее удовлетворенности работой зависят от «уверенности, что я сделала это хорошо», 30% ~ «когда пациент доволен», 20% ~ «то, что я получу еще материальную компенсацию за свою работу». Молодая стоматолог намерена поступить учиться в ординатуру, чтобы повысить квалификацию. Ее жизненная цель ~ «стать хорошим врачом, который умел бы делать то, что должен, и которого бы уважали».
Но эта цель ~ не единственная. Ей еще нужны деньги, «чтобы в перспективе обеспечить детям счастливое детство, ...иметь свое жилье, хотя бы раз в год где-нибудь отдыхать за границей, посмотреть мир...» С этим планируемым «среднеклассовым» жизненным стандартом взаимосвязан и проект профессиональной карьеры: «Я хочу работать в частной клинике, это моя цель». И, в отличие от саратовского хирурга, необходимые для достижения подобных целей усилия она не считает неприятной помехой своей профессиональной деятельности, призванию врача: скорее, все это сливается для нее в некую единую, внутренне непротиворечивую жизненную стратегию.
Предпосылкой такой позиции, очевидно, является ее представление о самой себе как суверенном творце собственной, одновременно профессиональной и материальной, ситуации: в ментальности молодого врача просто отсутствует некая внешняя инстанция, обязанная создать ей материальные условия для «нормальной» работы. Это представление обусловлено, в свою очередь, тем, что с первых шагов своей профессиональной деятельности стоматолог из Петербурга включена во вполне легитимные рыночные отношения. Она работает в полугосударственной платной клинике и получает сверх зарплаты ассистента 10% суммы, уплаченной каждым пациентом. Кроме того, имеет собственных пациентов. Выразительная деталь: еще занимая полуученическую, низшую должность во врачебной иерархии, респондентка зарабатывает, по ее словам, примерно столько же (около 2000 руб. в месяц), сколько ее мать ~ опытный стоматолог и заведующая отделением в государственной поликлинике! Рынок для этого начинающего врача ~ не источник страха и неуверенности, но естественная профессиональная среда. «Проблема у нас, ~ рассказывает она, ~ конкуренция очень большая, и нужно завоевать доверие клиента, потому что если ты получил хорошего клиента и он доволен твоей работой, он расскажет своим друзьям, и они тоже придут к тебе... В это входит все, не только то, что мы делаем руками, но и то, как мы общаемся с людьми, как мы на них смотрим, как мы за ними ухаживаем...»
Как две преподавательницы, саратовский хирург и петербургский стоматолог кажутся почти идеотипическими воплощениями различных тенденций, присущих их профессиональной группе. И в том, и в другом случае присутствует достаточно полный набор «независимых переменных», стимулирующих эти тенденции: молодость, отсутствие семейных обязанностей, работа в частном секторе, относительно благополучные «среднеклассовые» родительские семьи ~ факторы, формирующие «либерально»-индивидуалистические, ориентирующиеся на рыночную конкуренцию жизненные установки (в случае с врачами сказываются еще и профессиональные различия: по справедливому замечанию девушки-стоматолога, ее профессия «всегда была денежной»). Напротив, старший и средний возраст, статус отца или матери семейства, связь с бюджетной структурой или ведомственной корпорацией советского образца ~ это факторы, воспроизводящие взгляд на государство как необходимого «патрона» нормальной профессиональной деятельности. И эти противоположные представления о нормах отношений между профессионалом и обществом относительно независимы от профессиональной морали, убеждения в высокой социальной ценности своего труда и любви к нему, питающих психологическое равновесие и удовлетворенность личности.
По всей вероятности, большинство реальных учителей и врачей не обладают теми качествами «идеотипичности», которые по счастливой (для исследователя) случайности воплощают наши респонденты. Для многих из них работа не имеет столь высокой психологической значимости и является в значительной мере более или менее рутинным способом выживания. Тем не менее, отмеченные выше тенденции, ценностные ориентации и адаптационные стратегии дают определенное представление о процессах, происходящих в данных профессиональных группах.
НАУЧНАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ
Научные работники-«естественники» (физики, химики, экологи, медики и т.д.) оказались наиболее широко представленными в нашей выборке «оптимистов», образуя 40% ее состава; среди них преобладают люди старшего и среднего возрастов (лишь один респондент моложе 30 лет). Сам по себе этот факт кажется достаточно неожиданным: ведь, как хорошо известно, положение финансируемой из госбюджета академической фундаментальной науки (а именно ее представляет большинство наших респондентов-ученых) и занятых в ней людей, равно как и «прикладных» НИИ, в большинстве своем связанных с ВПК, резко ухудшилось в годы рыночных реформ. Феномен «утечки мозгов» ~ эмиграции на запад множества российских ученых, особенно молодых, угроза гибели отечественной науки широко обсуждаются в прессе и политических кругах. Образ доктора наук, зарабатывающего меньше уборщицы московского метро, стал расхожим газетным штампом, и даже президент Путин публично заявил, что ему «стыдно» говорить о зарплатах ученых. В этих условиях феномен ученого-оптимиста, да еще принадлежащего к поколению, знавшему лучшие дни, не только интересен, но и заслуживает внимательного анализа.
Посмотрим, как описывают свои ситуации и собственные реакции на них наши респонденты.
Женщина-микробиолог, доктор наук, заведующая лабораторией научно-исследовательского института Министерства здравоохранения, 60 лет. Специалист по дифтериту с мировым именем, участвовала во многих международных конференциях и проектах. Трудоголик: «90% моей жизни ~ это работа... я живу в лаборатории, делами лаборатории, и это самое главное». Горда тем, что при участии ее института и лаборатории удалось с 1997 года «добиться снижения дифтерита в стране». Доход у нее нестабильный, зависит от грантов, получаемых по проектам, от договоров, заключаемых ее лабораторией, в том числе с иностранными организациями. В общем, получается до 300 долларов в месяц. Муж в прошлом инженер, ответственный работник министерства, теперь ~ спортивный судья по боксу, зарабатывает только нерегулярными гонорарами за судейство (в том числе на Западе). «Я считаю, что мы хорошо живем ...мне вполне достаточно». А мужу нет ~ «из-за этого у него стресс, он нервничает». Но в целом у них «нет стремления к богатству». Считает себя «успешным человеком». На вопрос интервьюера: «Благодаря чему Вы достигли успеха?» ~ отвечает: «...на первом месте я все-таки поставлю себя. Свое трудолюбие, наверное, свой характер. Желание добиться успеха. Т.е. у меня всегда все в перспективе... я всегда к чему-то стремилась. У меня всегда есть цель. У меня и сейчас она есть...»
Денежные заботы занимают большое место в жизни респондентки, но она бьется не за собственный доход, а за выживание лаборатории. С горечью констатирует, что их работа «не востребована государством», что ее сотрудники получают нищенскую зарплату. «Очень часто бывает, что я борюсь за какие-то материальные ценности, но не для себя, а для своих ребят... Вплоть до того, что... иду на какие-то опрометчивые поступки, даже незаконные... Но когда что-нибудь очень нужно, я выкладываю свои деньги... Я сейчас ребятам дала свои деньги, и мы вышли в Интернет».
Химик, заведующий отделом в академическом институте, 62 года. Главная проблема на работе у него, как и у предыдущей респондентки, ~ добыть деньги на выживание научного коллектива. Сейчас в его отделе работают «одни пенсионеры». В отдел и институт за последние десять лет пришли «единицы». Главная забота ~ увеличить финансирование за счет дополнительных заказов: «Большинство руководителей, и я в том числе, рыщут как волки, с утра до ночи в поисках [заказов]... Надо в пяти местах поговорить, чтобы в одном месте какой-то договор был. Какие-то внебюджетные источники у нас есть, которые удваивают наши доходы».
Собственные доходы этого доктора наук ~ примерно 2000 руб. в месяц, в том числе 1400 руб. ~ официальная зарплата и 600 руб. дополнительные доходы. С учетом размера семьи (жена, двое сыновей-учащихся) среднедушевой месячный доход у них ~ 500-600 руб., что крайне мало ~ намного ниже того минимального уровня, который, по оценкам социологов, достаточен для принадлежности к «среднему классу». Сам респондент относит себя по уровню доходов к «самой низшей» ступени социальной иерархии, но относится к этому спокойно. Похоже, он просто не придает этой стороне жизни решающего значения (или, может быть, сознательно настраивает себя на такую позицию). В ответ на вопрос интервьюера признает, что ощущает несправедливость низкого уровня оплаты своего труда, но тут же подчеркивает субъективность и относительность этого ощущения, как и любой оценки уровня доходов вообще. «Всякому нормальному человеку, ~ рассуждает респондент, ~ его оплата труда должна казаться недостаточной... Но мало ли что мне кажется».
Характерно, что, развивая эту субъективистско-психологическую концепцию уровня доходов, доктор наук никак не связывает его с материальными потребностями и трудностями, которые испытывают он и его семья ~ о них вообще речи в интервью не возникает. Для полноты картины можно отметить, что у них есть какие-то ресурсы, унаследованные от более благополучных лет: машина, земельный участок, на котором семья строит новую дачу. Однако его психологическая адаптация (реальная или демонстрируемая) к нынешней, достаточно трудной материальной ситуации объясняется главным образом не этим, а иерархией личных потребностей и интересов. «Мне кажется, ~ говорит респондент, ~ то, чем я занимаюсь ~ не только интересное, но и самое важное в жизни». Профессиональные интересы занимают у него более 70% «от общего». А на втором месте ~ любовь к классической музыке, которую он удовлетворяет главным образом с помощью радиоприемника (передачи «Орфей»). Удовлетворенность этих наиболее значимых для него потребностей позволяет респонденту отнести себя «по самоощущению» уже не к низшей, а к одной из самых высоких ~ седьмой-восьмой ступеням социальной лестницы.
Теплофизик, старший научный сотрудник академического института, 43 года. Трудовую жизнь респондента отличает чрезвычайное многообразие. Во-первых, это собственно прикладная теплофизика, включая «нетрадиционную энергетику», работы по энергосбережению и «кончая тем, что называется халтура... от расчета каких-то печей... до медицины». Во-вторых, «полупрофесссиональная околокомпьютерная деятельность» (сборка, поддержка компьютерного парка). И наконец, в-третьих, «разнообразная полиграфия». Потом выясняется, что слово «халтура» он употребляет отнюдь не в уничижительном смысле ~ просто это работа, не спущенная институтским начальством, а договорная ~ «работа по конкретному техническому заданию под конкретные деньги и в конкретные сроки».
В общем, этот теплофизик, компьютерщик и полиграфист практически действует на свободном рынке научно-технических услуг. Причем действует в двух ипостасях ~ индивидуально, как самозанятый специалист, и в составе своего первичного трудового коллектива. Вот как описывает он ситуацию в своем институте: «Учитывая, что бюджета мало, администрация пустила всех на вольные хлеба... Бюджет вот вам есть на 30% ~ вот вам 30% зарплаты, вот вам восемь дней в табеле заработали. Остальное получаете по договорам... И тут же институт как институт перестал существовать... Т.е. это [стали] отдельные лаборатории, руководители которых превратились в менеджеров, кто-то более удачливый, кто-то менее...» Но хорошая институтская школа себя показала: оказалось, «что мы в состоянии браться за любую работу, хоть косвенно имеющую отношение к нам». Так, взявшись за очень трудный заказ из сферы медицины и оптики, «фактически за год довели ... до среднемирового уровня.... Есть школа и... есть менеджер, который может крутиться, ...вот у нас завлаб такой менеджер». Очевидно, именно из-за этих относительно широких возможностей свободных заработков в институте, где работает респондент, в отличие от более «фундаментального» по профилю института доктора-химика, много сотрудников молодого и среднего возраста.
Вся эта весьма разносторонняя и напряженная деятельность (подчас приходится работать ночами) не приносит респонденту особого благосостояния. Душевой семейный месячный доход (его семья ~ неработающая жена и двое маленьких детей) ~ примерно 1000 руб., живут в малогабаритной двухкомнатной квартире, отдыхают на родительской даче, которая предоставляется им на один месяц в сезон. Машины не имеют. Но теплофизфик не чувствует себя ущемленным, оценивает свое положение как среднее на социальной лестнице. В своем отношении к жизни и работе он руководствуется «американской моделью успеха», в которой, как он вычитал в каком-то журнале, главная ценность ~ это не деньги, а профессиональный успех («некое имя в известных кругах»). Деньги для него ~ не самоценность, просто он хотел бы иметь их «столько, чтобы о них не думать». И наконец, в его жизненный идеал входит «возможность заниматься тем, чем хочешь» (что не получается из-за тех же денег).
Респондент считает, что он добился профессионального успеха, ~ это и определяет общий позитивный тонус его самочувствия. Совершенно очевидно, что за множество работ он берется не только ради заработка, но и потому, что они ему интересны; ему вообще трудно отделить одно от другого («очень часто это переплетается, очень часто»). И обилие занятий, перегруженность трудом ему, похоже, по душе. «Халтура помогает работе потому, что она заставляет организовываться», и он, очевидно, чувствует себя тем лучше, чем больше «интересных задачек» приходится решать, чем интенсивнее его повседневная трудовая жизнь. И в будущем он хочет для себя примерно того же самого: «...хотелось бы, скажем так, решать те же задачки. В принципе, тем, чем я занимаюсь сегодня, я в какой-то мере доволен». В целом этому ученому-прикладнику, очевидно, в силу специфики и направленности его способностей, удается использовать работу «на рынок» как сферу творчества и самореализации.
Теплофизик, старший научный сотрудник академического института, 53 года. С предыдущим респондетом этого научного работника объединяет не только та же специальность, но и сходная трудовая ситуация. Так же как его младший коллега, он много работает «на рынок», т.е. по договорам, совмещая это с работами «собственно по специальности, которые, может, не приносят таких денег, но в основном голову занимают». Та же весьма высокая интенсивность работы ~ по его оценке, в несколько раз выше, чем 10-15 лет назад («тогда мы работали спокойно») ~ он ведет одновременно пять-семь работ. Однако в материальном плане старший теплофизик значительно благополучнее младшего: один из его двух сыновей работает, жена тоже подрабатывает на организации школьного туризма. В общем, на каждого члена семьи в период после августовского кризиса 1998 года приходится примерно по 250 долларов (6 000~7 000 руб.) месячного дохода. А до кризиса было значительно больше ~ тогда, по словам респондента, он «денег не считал».
Несмотря на более высокий материальный статус, старший теплофизик воспринимает свою ситуацию менее спокойно и однозначно, чем младший. В отличие от того, он разделяет работы «по специальности» и «ради денег», рассматривая последние как «вынужденные». Здесь сказывается другая структура профессиональных интересов: если младшему, по-видимому, более или менее безразлично содержание поставленной задачи ~ была бы она «интересной», то старший тяготеет к тому, что он называет «чистой наукой». Научных работников, которые решают практические задачи, он называет научно-технической, а тех, кто занимается «чистой наукой» ~ научной интеллигенцией. «Разница, ~ объясняет он, ~ в том, что научный работник, научная интеллигенция... должна иметь возможность работать, не думая о сиюминутных результатах работы. Это работы, как правило, не прикладные... Не обязательно фундаментальные. Они могут быть, на самом деле, и прикладными, но не имеют каких-то жестких сроков, они никогда тебя не подгоняют. Есть время подумать. Отложить. Через неделю снова подумать. Есть время работать в библиотеках, общаться, конференции и т.д.» Такая наука, по мнению респондента, в основном в их институте практически кончилась: старшее поколение ученых фактически осталось без коллективов, «и они ничего реально делать не могут». Люди среднего возраста, «которые всерьез занимались наукой», либо постоянно работают на Западе, либо «туда-сюда мигрируют», но в основном не уходят, трудятся там же. «А научно-техническая интеллигенция, к которой я себя причисляю, это люди, которые... нашли себе место вот в сегодняшнем этом самом бардаке... нашли возможность зарабатывать деньги в общем достаточные, чтобы.... на каком-то стыке науки, даже не столько науки, а своего потенциала что ли, умственного своего багажа, что приобрели за это время... и поэтому к решению всех этих задач подходят... несколько творчески, ищут всяческие нетривиальные решения. Вот на этом мы и живем, собственно говоря».
Ясно, что такая жизнь этого ученого полностью удовлетворить не может. «В общем, ~ говорит он, ~ мне хочется чего-то другого. Специальность интересная, но не всегда удается работать по специальности». Но больше всего его угнетает отсутствие стабильности. «Я не могу спрогнозировать свою жизнь больше, чем на два-три месяца вперед... Я вынужден параллельно основной работе еще и крутиться ~ искать новые договорные работы, добиваться уплаты денег за старые и т.д. Отсутствие стабильности для него особенно болезненно потому, что его профессиональные интересы ориентированы (в отличие от его младшего коллеги) на достаточно долгосрочные творческие цели, что как раз и требует относительного спокойствия, сосредоточенности, свободы от повседневных забот и тревог.
Самое любопытное заключается, однако, в том, что этот представитель фундаментального знания отнюдь не склонен воспринимать свою ситуацию, и все, что произошло с наукой в постсоветский период, только в негативном плане. Он резко отмежевывается от своих коллег, которые «последние 5~6 лет ругают все и вся», говорит, что все эти годы он никогда «не жалел о том, что произошло», в отличие от них, у него не было никакой жалости» и к самому себе. «Ничего страшного в этом не вижу», ~ говорит он о своих «денежных» работах, а нынешний уровень интенсивности своей трудовой деятельности оценивает однозначно: «...я к этому отношусь исключительно положительно. Я считаю, что это, так сказать, правильнее, чем было раньше» (здесь он солидарен с младшим теплофизиком).
Ключ к этой, на первый взгляд, противоречивой позиции («лучше, чем раньше», но заниматься фундаментальной исследовательской работой крайне трудно или невозможно, и вообще кругом бардак), можно найти в даваемом респондентом объяснении психологии тех ученых, которые только и делают, что жалуются и «ругают власть». Они, считает он, «привыкли к другому, привыкли к тому, что сам человек ничего не решал». В современной жизни его устраивает отсутствие порождающей иждивенчество опеки институциональных структур, необходимость предельного напряжения творческих сил и ресурсов, личная самостоятельность, в том числе и возможность «творческих, нетривиальных» решений в процессе выполнения «рыночных» работ. «Вхождение в рынок» для него одновременно и зло и благо; очевидно, оптимальным для ученого был бы не возврат к дорыночному «спокойствию» и работе с прохладцей, но некий баланс: самостоятельной, ориентированной на рынок творческой деятельности ~ с одной стороны, и минимума социальных гарантий для углубленной научной работы, свободной от его требований, ~ с другой.
Женщина-офтальмолог, доктор наук, главный научный сотрудник института Министерства здравоохранения, 60 лет. Доходы респондентки сводятся к официальной зарплате и надбавкам и составляют 1700~1800 руб. в месяц. Мужа и детей у нее нет (развелась в молодости), в семье только больная мать. Похоже, материальная сторона жизни ее мало волнует. Во время кризиса 1998 года потеряла свои сбережения, лежавшие в Инкомбанке, но переживала недолго: по ее словам, «деньги приходят и уходят... и шут с ними, чтобы из-за этого убиваться, жизнь не кончилась, она еще прекрасна и удивительна». В то же время деньги, как она говорит, самая сложная проблема в ее жизни, но речь идет о деньгах «на оборудование, на реактивы, на диагностику. Идешь подписывать к директору прошение о закупке того или иного с дрожью внутренней, потому как у него тоже денег нет. Минздрав финансирует науку только на 33%».
Респондентка считает себя романтиком и с сожалением признает, что в ней нет прагматизма. Живет, похоже, исключительно своей научной работой и заботами о судьбах учеников-аспирантов. Какого-либо ухудшения в своей жизни по сравнению с советскими временами не видит. Считает, что произошедшие в стране перемены ~ «к лучшему ~ это хорошо», а на вопрос «чем лучше?» говорит о нелепостях плановой экономики, лицемерии официальной советской пропаганды («идиотизм полный»), о технической отсталости советской медицины, вызывавшей у нее негодование и обиду за Родину. Да и ее собственное положение, рассказывает она, «было хуже, чем сейчас, поскольку даже после кандидатской защиты я была на должности врача, оклад 130, и за кандидатскую диссертацию 10 рублей получала ~ 140 рублей. Не говоря уже о том, что никуда не поедешь на эти деньги... и себе никакие деликатесы не купишь, даже если найдешь». И за границу раньше таких как она, не пускали, а теперь она ездит на научные конгрессы.
Все это не мешает респондентке видеть «прорехи» современной жизни: коррупцию, всесилье чиновников, нестабильность, нищенские пенсии. Но все это, похоже, для нее не больше, чем внешние помехи (раньше одни, теперь другие), которые, в общем, переносимы, коль скоро она может заниматься так или иначе любимой работой и... надеяться, что перемены все же приведут к лучшему. По отношению к трудностям она занимает активную позицию: является председателем профкома института, старается помогать бедствующим коллегам по работе.
Суждения респондентки отражают опыт «старой» рядовой интеллигенции ~ тех, кто в советское время не имел ни высокого корпоративного (принадлежность к привилегированным структурам) и личного статуса, ни хотя бы относительно высокой зарплаты. Респондентка считает, что медики (к которым она себя относит, как и к ученым) и при советской власти «котировались» невысоко, а «последующая власть это еще только усугубила», но качественной разницы в их прежнем и нынешнем статусе не видит.
Физик, старший научный сотрудник института ядерной физики, 48 лет, Санкт-Петербург. Как и другие респонденты-ученые, живет на небольшую зарплату и на то, «что удается получить по договорам». Как и они, вместе с коллегами по работе занят поиском заказчиков. «В принципе бывают варианты, когда делаешь работу совершенно постороннюю, но сейчас не принято отказываться». Однако, в отличие от некоторых респондентов-ученых, особого противоречия между собственными профессиональными интересами и выполняемой работой он и его коллеги по институту не ощущают. Тема исследований, которую они «поднимают» в данный момент, «вытекает из того, что мы делали раньше, и под эту собственную тему они ищут договорное финансирование». Не испытывает он и какого-либо противоречия между материальными целями и содержанием работы, во всяком случае, этот сюжет в интервью не возникает. Создается впечатление, что «денежные» работы в основном соответствуют его профессиональным интересам и дают возможность самореализации. Здесь сказывается и то, что для респондента удовлетворение работой на 50% зависит от общения с коллегами по поводу работы, а с этим у него все хорошо.
Своим материальным положением физик в общем удовлетворен: его семья не испытывает острых материальных проблем (какие-либо цифры дохода в интервью не упоминаются). Он не является единственным «кормильцем»: жена ~ высококвалифицированный технический специалист и хорошо зарабатывает в качестве консультанта частных фирм, сын ~ студент-старшекурсник и тоже начинает подрабатывать. К моменту августовского кризиса у них были долларовые сбережения, очевидно, не хранившиеся в банке, и в результате девальвации рубля семья даже выиграла. Тем не менее, материальные заботы играют определенную роль в жизни респондента: он хотел бы повысить свой собственный заработок и прилагает к этому определенные усилия. В целом считает свое положение средним, отделяет себя в этом отношении от тех коллег, которые «работают за границей» (это ~ «другая категория, сравнивать невозможно»), без какой-либо досады говорит о том, что не может каждый год отдыхать за границей, а приобретать новую бытовую технику и ремонтировать квартиру удается только постепенно, по частям. Есть у него и планы профессиональной карьеры: через несколько лет собирается защитить докторскую диссертацию.
В целом этот физик производит впечатление человека благополучного, психологически уравновешенного, живущего нормальной и полной жизнью, в которой есть место и профессиональному творчеству и разнообразному досугу (он увлекается спортом и классической музыкой). Интереса к деньгам у него, может быть, чуть больше, чем у некоторых других респондентов-ученых, но они для него не самоцель, а, прежде всего, условие семейного счастья. Роль семьи очень велика в системе ценностей почти всех наших респондентов-ученых, но для петербургского физика она ~ главное содержание жизни: в ходе интервью он неоднократно возвращается к этой теме, подчеркивая, что семья для него на первом месте, а работа на втором.
В целом создается впечатление, что кризис науки и кризис научного сообщества обошел стороной этого петербуржца. Он считает, что «жизнь в целом изменилась к лучшему» по сравнению с советскими временами.
Политические симпатии респондента безоговорочно на стороне реформаторов-либералов, его «герои» ~ Гайдар (чьи статьи он внимательно читал еще в годы перестройки), Чубайс.
Эколог в области речной и морской гидрологии, старший научный сотрудник института охраны природы, Санкт-Петербург, 29 лет. Окончив институт, недолго работал по специальности и учился в аспирантуре. Получал крайне низкую зарплату и был вынужден, чтобы прокормить семью, сменить профессию ~ пошел работать водителем троллейбуса. Впоследствии с помощью друзей и бывших коллег вернулся к работе по специальности. Хотя институт, в котором работает респондент, государственный, никакого бюджетного финансирования он не получает и живет, по его словам, «исключительно на договорных темах, которые то есть, то нет». Средний заработок эколога ~ 1 500 руб. в месяц; на члена семьи (жена, ребенок) получается «чуть меньше тысячи рублей».
В оценке респондентом собственного материального положения звучит некоторая двойственность. С одной стороны, он признает, что его дохода не хватает «на минимальные потребности», именно поэтому он пытался подрабатывать торговлей, но это давало столь незначительный доход, что он оставил дело. Достаточным считает доход 100 долларов на члена семьи (т.е. в 2,5 раза больше, чем теперь): «...это позволило бы откладывать деньги на какие-то покупки, вроде телевизора. О покупке квартиры я не говорю, это слишком большая роскошь». После кризиса 1998 года он был вынужден продать имевшийся у него старый автомобиль. С другой стороны, респондент заявляет: «...в принципе мой доход меня устраивает, ...меня устраивает та ситуация, в которой я нахожусь, и я надеюсь, что она улучшится».
В этой позиции отражена не только та «подгонка потребностей к возможностям», которую П. Бурдье считает присущей механизму хабитуса. Она представляет собой еще и способ разрешения конфликта различных мотивов, которые воздействуют на жизненную стратегию респондента. Сам респондент говорит о возникавшей перед ним проблеме, «что важнее: доходная работа или интересная работа... махать метлой за большие деньги или заниматься своим любимым делом, но за меньшие». Он глухо упоминает о том, что эта проблема проявляется в его отношениях с женой и ее родителями, говорит о том, что всегда существует возможность «какого-то компромисса», выбора «меньшего из двух зол».
Совершенно очевидно, что «меньшее зло» для эколога ~ это сведение к минимуму материальных запросов ради возможности заниматься «любимым делом». Он прямо говорит о том, что повышение жизненного уровня для него важно, но прилагать к этому «какие-то титанические усилия» он не намерен. Гораздо менее уверенно, чем другие семейные респонденты-ученые, ставит семью на первое место в иерархии своих ценностей: «Я не мыслю себя без своей семьи, но и без любимой работы тоже. Наверное, все-таки семья главнее, хотя мне сложно расставить».
Любовь к собственной профессии эколог объясняет не только соображениями интереса и самореализации («мне это нравится, просто интересно заниматься этими вопросами»). Очень важны для него также социальные функции экологии ~ то, что она «нужна людям..., кто-то должен заниматься тем, чтобы нам не пришлось жить на свалке». Если судить по тональности высказываний, проблемы защиты природы, сопротивление бюрократии, мешающей внедрению в практику научных разработок, волнуют его больше, чем проблемы собственного жизненного уровня. «У нас очень мало работ, ~ говорит он об этих проблемах, ~ которые действительно дошли до практики... Это входит в противоречие с нынешней экономической ситуацией, с чиновниками, которые ничего не получают себе в карман, а вынуждены прилагать какие-то дополнительные усилия... Вот, наверное, здесь главная проблема нашей работы».
Эколог ~ человек, в общем, удовлетворенный своей жизнью, и основа этой удовлетворенности в том, что, по собственной оценке, он добился успеха. Успех же, в его понимании, определяется уровнем овладения профессией. «Будущее, ~ говорит он, ~ за специалистами, чтобы стать профессионалом, надо непременно совершенствоваться в области, которой ты занимаешься. Дилетанты... никогда не пойдут наверх, а если в настоящее время это есть, то это временное явление ~ те же чиновники, которые принимают важное решение, не понимая сути проблемы». Можно сказать, что ценности профессионализма, профессиональной ответственности ~ центральные в системе этических представлений респондента.
Случай эколога особо интересен тем, что это единственный среди наших респондентов человек, представляющий младшее поколение научно-технической интеллигенции ~ «детей перестройки». Хотя на основании одного примера невозможно делать какие-либо обобщения, он может служить иллюстрацией межгенерационной преемственности ценностных ориентаций, мотивационных и жизненных стратегий внутри данного слоя. Она проявляется в отношении к труду, к деньгам, в способности действовать на рынке, в представлениях о социальном достоинстве личности, причем независимо от того, в какой мере человек может быть отнесен или относит себя к среднему классу.
В то же время заметны и различия. Заключаются они, пожалуй, прежде всего в меньшем влиянии на сознание молодого эколога общих идеологических ценностей, которые играют фактически роль «высшей инстанции» в мировосприятии многих его старших коллег. Сказывается иной социальный и жизненный опыт: многие представители интеллигенции, пережившие «развитой социализм», воспринимают в целом позитивно последовавшие перемены, поскольку они внесли в их жизнь свободу, острый дефицит которой они ощущали в недавнем прошлом. Поэтому, даже если их собственное реальное положение ухудшилось по сравнению с прошлым, они нередко именно с этих позиций оценивают изменения в своей жизни.
Более молодой респондент гораздо меньше склонен к подобной эмоциональной интериоризации, к личностному переживанию макросоциальных перемен. Не потому что они его не интересуют ~ напротив, он внимательно следит за тем, что происходит в стране, имеет четкие суждения по основным экономическим и политическим проблемам. Но судит он о них более рационально и прагматично, чем его старшие либерально ориентированные коллеги, и именно поэтому отказывается от общей оценки перемен, дифференцирует их положительные и негативные аспекты. О политическом сознании наших респондентов речь подробнее пойдет ниже, здесь же важно отметить, что у молодого эколога чувствуется определенное психологическое дистанцирование от макросоциальной среды: его собственный мир ~ это его профессия и семья, все остальное ~ мир внешний, воздействующий на условия его профессиональной деятельности и подчас даже способный затормозить ее; но не место в этом мире, не отношения с ним определяют личностное самосознание и идентичность респондента. Ему достаточно той связи с обществом, которую дает ему его профессия: ведь он работает «для людей». Сам он определяет себя как «центриста» ~ в действительности это означает, что у него нет ни четких идейно-ценностных и политических предпочтений, ни «героев» ~ у всех партий и политиков, говорит он, «есть свои плюсы и минусы» (кроме коммунистов, к которым он относится «крайне негативно»). «Плюсы» оцениваются чисто прагматически: так ему больше других нравится петербургский губернатор А. Яковлев («он занимается делом, а не танцует с английской королевой, как Собчак»). Подобные взгляды достаточно типичны, но, насколько позволяют судить наши интервью, представители старшего поколения научной интеллигенции вырабатывают их, каковы бы ни были их взгляды и предпочтения, на основе иных ценностных критериев.
* * *
Данные наших интервью подтверждают, что далеко не все представители научно-технической интеллигенции попадают, если судить по критериям уровня доходов, в постсоветский средний класс. Многие из них испытывают процесс снижения статуса, переходят в низший (базовый) слой. Однако это расслоение не сводит на нет традиционную типологическую общность данной социально-профессиональной группы: ее представители, независимо от дохода и статуса, продолжают охотнее относить себя к интеллигенции или к какому-либо ее профессиональному подразделению, чем к одному из «вертикальных» слоев общества; в их среде сохраняется значительная общность ценностных и мотивационных ориентаций.
Для социального поведения научно-технической интеллигенции, ее роли в процессах общественных изменений «объективная» имущественная и статусная дифференциация, очевидно, имеет меньшее значение, чем дифференциация психологическая. Наши данные показывают, что вторая не совпадает с первой и не детерминируется ею: ученые-оптимисты не обязательно самые благополучные, среди них немало самых бедных представителей данного слоя. Это обстоятельство тем более существенно, что оптимизм, т.е. относительно высокий уровень психологической адаптации к переменам, сохраняется в условиях глубокого упадка материального положения и ученых, и самой науки, что, казалось бы, не могло внушить им подобный настрой.
Большая доля ученых-оптимистов в нашей маленькой выборке вполне могла бы быть случайной, но типичность данного феномена подтверждается более репрезентативными данными. Так, в телекоммуникационном опросе научной интеллигенции, проведенном в ноябре-декабре 1998 года А.Г. Шмелевым, участвовало 202 респондента из 18 городов и населенных пунктов России, и оптимистами, по данным автора, оказалось 27% [41, с. 3]. Цифра кажется довольно высокой, особенно если учесть, что опрос проводился в чрезвычайных, аномальных условиях ~ непосредственно после шока, вызванного кризисом августа 1998 года. Автор устанавливает зависимость психологического тонуса респондентов от их возраста ~ молодежь оптимистичнее представителей старших поколений ~ и убедительно показывает, что «степень социальной удовлетворенности никак не выводится линейно из уровня благосостояния». А наиболее существенным фактором оптимистического настроя, наряду с возрастом, он считает отношения в первичном трудовом коллективе, точнее, уровень конкурентности этих отношений. «Когда напряженность конкурентных отношений находится в зоне «оптимума» (не слишком вялые и не слишком остро-напряженные), тогда люди воспринимают свою микросоциальную нишу как более благоприятную и готовы более активно работать в ней, принося пользу обществу в целом» [41].
Данный вывод лишь частично совпадает с нашими данными. Наши респонденты, как правило, ничего не говорят о внутригрупповой конкуренции: отношения в их трудовых коллективах (лабораториях, отделах) скорее выглядят в их рассказах как тесное дружеское сотрудничество. Что и понятно: исследовательская работа ~ во всяком случае, в естественных науках ~ это по преимуществу работа коллективная, «командная», основанная на обмене идеями и на разделении труда. Конкуренция ученых на рынке тоже вряд ли особенно сильно воздействует на их положение и поведение: современная наука настолько дифференцирована и специализирована, что различные научные коллективы относительно редко могут решать аналогичные прикладные задачи. Другое дело, что внутригрупповой психологический климат действительно является, судя по данным интервью, одним из важнейших факторов самочувствия ученых-естественников, их удовлетворенности жизнью и работой, одним из важнейших, но не доминирующим и вряд ли основным «отвечающим» за психологическую дифференциацию ученых по оси «оптимизм-пессимизм», каковым, по-видимому, считает его Шмелев. Эта дифференциация вообще никак не может быть объяснена лишь методами наиболее влиятельных направлений «классической» социальной психологии, делающими главный упор на микрогруппах, внутригрупповых отношениях и коммуникациях. Решающим дифференцирующим фактором здесь выступают, скорее всего, межиндивидные различия, особенности структуры личности, ее мотивационно-волевой сферы, и психология личности важна для анализа данной проблемы не меньше, если не больше, чем психология малых групп.
Для всех наших ученых-оптимистов характерна развитая личностная автономия, свободолюбие, которое не противоречит психологической интеграции с трудовой группой, но более или менее гармонично сочетается с ней. Не менее характерен для них такой тип трудовой мотивации, в котором главную роль играет «вознаграждение самим трудом»: труд переживается, прежде всего, как сфера самореализации личности, и успешное решение творческих задач рассматривается как основная форма успеха вообще; именно профессиональный успех является объектом достижительной мотивации таких ученых. Уровень материальных аспираций в зависимости от конкретных условий и жизненного опыта может быть у них очень низким (обеспечение жизненного минимума для себя и семьи) или более высоким. Но он не подчинен сколько-нибудь сильно погоне за престижным потреблением, символизации собственного социального статуса и достоинства неким стандартом благосостояния (вроде известного набора «квартира, дача, машина»). В этой среде статус нередко измеряется «самочувствием», которое основано на удовлетворенности работой и чувстве профессионального достоинства (иными словами, на гордости за выполняемую работу).
Все эти личностные психологические черты обусловливают способы практической и психологической адаптации ученых-оптимистов к рынку. В советское время материальное положение научных работников очень мало зависело от интенсивности и результатов их труда и отличалось стабильностью. В долговременном плане ее ослаблял только процесс инфляции, довольно медленно развивавшийся в стране на протяжении 1960~1980-х годов и снижавший покупательную способность существовавших номинальных зарплат, остававшихся в большинстве случаев неизменными в течение этого периода. Зарплата зависела от формального статуса ученого ~ ученой степени и должности ~ и статуса учреждения, в котором он работал (в «большой» Академии она была выше, чем в академиях отраслевых, дополнительные материальные привилегии имели работники научных учреждений, входивших в военно-промышленный комплекс). Защитив кандидатскую и докторскую диссертации, достигнув должности «старшего» и затем «главного» научного сотрудника, работник науки мог считать свое материальное положение обеспеченным на определенном уровне, мало зависящем в дальнейшем от его трудовых усилий. Правда, он мог улучшить его, делая административную карьеру в своем учреждении, но и этот путь упирался в довольно низкий потолок. Дальнейшая академическая карьера ~ избрание в члены-корреспонденты или академики ~ в материальном и статусном плане была привлекательной, но она была возможна для весьма немногих и часто зависела не столько от чисто научных заслуг, сколько от ранее достигнутого административного статуса, связей с академическими «верхами» и тому подобных «правил игры». Они действовали в любой бюрократической организации. («Такая академия...», ~ сказал один из наших респондентов ~ доктор наук, столь кратко, но ясно отвечая на вопрос интервьюера, почему он не мечтал о дальнейшей академической карьере). Интенсивность труда ученого, достигшего определенного статуса, его творческое «горение», таким образом, зависели в основном от его личной «внутренней» мотивации, интереса и любви к своему делу; при слабости подобных мотивов он мог спокойно свести свою трудовую деятельность к малообременительному, а то и чисто формальному минимуму. Государственно-патерналистская система вместе с такими ее хорошо известными социальными и психологическими последствиями, как паразитизм и иждивенчество, действовала в сфере науки не в меньшей, а то и в большей степени, чем в других сферах экономической и общественной жизни.
Разрушение этой системы в начале 1990-х годов поставило перед основной массой научных работников проблему элементарного выживания. Часть из них решила ее путем эмиграции, часть ушла из науки в другие сферы деятельности. (На курсах менеджеров и предпринимателей я познакомился с доктором физики, являющимся в настоящее время собственником небольшого предприятия по производству гвоздей и тому подобных простых металлических изделий; он мечтает вернуться в науку, но не видит для этого реальных возможностей.) Те, кто по разным причинам не выбрали эти пути, в большинстве случаев могли рассчитывать только на дополнительные коммерческие доходы от научной или околонаучной деятельности, либо самостоятельно находя источники таких доходов, либо участвуя в подобного рода работах своих учреждений. Глубокий пессимизм, настроения растерянности, уныния, пассивного социального недовольства являются, судя по данным репрезентативных исследований (см. например, указанную работу А.Г. Шмелева), наиболее распространенной реакцией научного сообщества на этот кардинальный сдвиг в его положении. Непосредственные мотивы подобных настроений могут варьироваться: у одних это элементарное материальное обнищание, у других повышенная трудовая нагрузка и необходимость тратить время и силы в поисках заработка, у третьих ~ вынужденный отказ от собственных научных планов и интересов ради работы по заказам и договорам; у многих все эти мотивы могут сочетаться в тех или иных пропорциях. Но во всех случаях общей основой пессимизма ученых является утрата гарантий институциональной, государственной поддержки их деятельности ~ утрата, воспринимаемая психологически как разрушение важнейшей основы социального бытия данной профессиональной группы.
Наиболее существенная особенность «оптимистического» меньшинства научного сообщества состоит в том, что оно гораздо меньше ~ по сравнению с большинством ~ психологически интериозировало зависимость личных судеб и профессиональной деятельности от социальных институтов. Конечно, подобная зависимость реально существует и для этой группы, но оптимисты воспринимают институциональную, макросоциальную действительность как внешнюю среду, которой они способны противопоставить свои собственные силы и ресурсы: трудоспособность и энергию, творческие потенции и любовь к своему делу. Вынужденный «выход на рынок» переживается не как несчастье, но как способ адаптации, раскрывающий новую сферу выявления этих личностных сил и ресурсов. При всей неоднородности отношения ученых-оптимистов к используемым ими способам добывания денег, никто из них не рассматривает эти способы как нечто непереносимое, не совместимое с ценностями и целями их профессиональной деятельности.
Как мы видели из рассказов наших респондентов, их связи с рынком значительно различаются по формам и интенсивности. У одних работа на заказ ~ основная форма профессиональной деятельности, у других ~ необходимое дополнение к основной творческой, практически не оплачиваемой работе, третьим удается продолжать свою собственную творческую работу, выйдя на глобальный рынок, обеспечивая ее финансирование путем участия в международных проектах и получения зарубежных грантов. В рамках последнего варианта (характерного, в частности, для медицинской науки) связь с рынком выступает в имплицитном виде и не ведет к изменениям в содержании исследовательской работы. Но даже при преобладании и высокой интенсивности чисто «рыночных» работ, когда рыночный спрос определяет цель исследования, их психологический смысл для ученых-оптимистов не сводится к заработку: они воспринимаются как разновидность творчества и способ самореализации. За высказываниями некоторых респондентов о том, что они предпочли бы современный тип научной деятельности советскому, угадывается еще один аспект этого смысла: самостоятельное плавание по рыночному «морю» лучше, чем обеспечиваемая патроном-государством спокойная жизнь в академической «башне из слоновой кости». Лучше, потому что позволяет человеку полнее, разностороннее, «богаче» раскрыть свой творческий потенциал, при этом отвечая на непосредственные, воплощаемые рыночным спросом реалии жизни. В связи с этим можно напомнить, что отсутствие внедрения в практику достижений науки было одной из самых ее больных проблем в советский период, рынок в присущих ему стихийных формах в той или иной мере преодолевает это отчуждение науки от жизни. Бюрократический патернализм может обеспечивать относительную стабильность условий жизни и труда ученых, но создаваемая им мертвящая общественная атмосфера нередко лишает их стимулов к творчеству.
Рассматриваемая часть российской научно-технической интеллигенции готова, сведя к минимуму свои материальные запросы, предельно напряженно работать как в сфере «чистой» науки, так и включаясь в рыночные механизмы. Мало походя по своему материальному статусу и психологическому облику на «классический» (западный) средний класс, она более многих других социальных групп способна к выполнению конструктивно-инновационных и стабилизирующих функций, которые приписывают этому классу политики и социологи. Инновации ~ естественный продукт любой успешной научной работы, а политическая и социальная стабильность ~ ее необходимое условие: перефразируя известное высказывание дореволюционного российского политика, можно сказать, что ученым нужны не великие потрясения, а великая наука.
Все сказанное не означает, что оптимизм ученых можно рассматривать как достаточное основание для оптимизма в отношении судеб самой российской науки. Во-первых, ситуация, которая описывается в их рассказах, настраивает скорее на мрачные прогнозы. Работа на рынок, как бы ни была она необходима и для их выживания и для углубления связей науки с инновационной практикой, сама по себе не может обеспечить ее подлинного развития. Бюрократическая опека вредна ей, но не менее вредно ее тотальное подчинение «невидимой руке» рынка. В частности потому, что, как показано в одной из работ о кризисе российской науки ~ исследовании А.В. Юревича и И.П. Цапенко, современный российский вариант рыночной экономики не приспособлен к ассимиляции достижений научно-технического прогресса [69]. Фундаментальная наука вряд ли может выжить без подчиненной ее потребностям институциональной материальной поддержки, а фундаментальные исследования ~ необходимое условие и основа прорывов в прикладной науке. Во всех развитых странах наука имеет такую институциональную поддержку или от государства, или от частного сектора экономики. В России дело, как известно, обстоит иначе.
Во-вторых, описанный здесь оптимистический менталитет ученых вряд ли может рассматриваться как фактор, содействующий изменению этой ситуации; скорее, он выражает «адаптационное» примирение с ней. Ученые-оптимисты достаточно самостоятельны, активны и инициативны лишь в рамках их собственной профессиональной деятельности. Они борются своим трудом за право заниматься любимым делом, но никому из них, если судить по интервью, не приходит в голову идея, что нужно как-то защищать интересы науки на макросоциальной и политической арене. Их собственное «общество» ~ это круг коллег, лаборатория и отдел, в лучшем случае ~ институт, а «большое общество», в котором решаются их судьбы, ~ сфера внешняя, и каким-то образом воздействовать на нее они и не помышляют. Свой опыт в этой сфере они могли бы обобщить стихами Булата Окуджавы:
... свинцовые дожди
лупили так по нашим спинам,
что снисхождения не жди.
А дождь, обычный или свинцовый, он и есть дождь, с ним ничего не поделаешь...
НА ДВУХ СТУЛЬЯХ
Одним из наиболее распространенных способов адаптации россиян к кризисной социально-экономической действительности является дополнительная работа. Правда, количественные параметры этого феномена, выявляемые социологическими обследованиями, выглядят не очень внушительно. Так, по данным одного из опросов ВЦИОМ, в апреле 2000 года, дополнительные заработки имел примерно каждый пятый взрослый мужчина и каждая десятая женщина; в среднем эти заработки составляли около1100 руб. на человека. Более двух третей этих людей имели дополнительную работу по найму, 6~7% занимались легальным частным предпринимательством и 9~10% «теневым» (без оформления патента и регистрации в качестве юридического лица). Эти виды заработка распространены по большей части среди специалистов с высшим образованием, квалифицированных и особенно неквалифицированных рабочих [37, c. 84, 85].
Есть, однако, основания полагать, что эти цифры преуменьшают реальные масштабы явления. Люди, имеющие дополнительные доходы, особенно, как в случае с «теневым» мелким бизнесом, не фиксируемые в каких-либо документах, часто не сообщают о них в налоговые органы, и многие из них, вполне возможно из осторожности, считают излишним рассказывать о них (или об их подлинном размере) социологам. Во всяком случае, в ходе углубленных интервью, в которых подобные вопросы не ставятся столь прямо и однозначно, как в анкетах, упоминания о дополнительной работе звучат гораздо чаще.
Несомненно, большинство людей, выполняющих дополнительную работу, делают это для того, чтобы увеличить свой доход по сравнению с неудовлетворительным заработком на основной работе. Понятно, что при доминировании такого мотива, характер этой работы не имеет принципиального значения: ее выбор определяется рыночным спросом, объективными и субъективными возможностями работающего ~ физическими данными, в лучшем случае профессиональной подготовкой и квалификацией. Очевидно, что психологически такая выполняемая только ради выживания работа воспринимается как вынужденное бремя.
В наших интервью мы встречались, однако, и с такими ситуациями, когда дополнительная работа приносит не только материальное, но и моральное удовлетворение, выступает как способ не только практической, но и психологической адаптации к современной действительности. Чаще всего это происходит в тех случаях (как, например, у врачей, у ученых), когда речь идет о дополнительной работе по основной профессии человека и когда она позволяет в той или иной мере обогатить содержание профессиональной деятельности, расширяет возможности самореализации в труде. Но есть среди наших респондентов и такие, кто осуществляет одновременно принципиально разные виды труда и получает морально-психологическое удовлетворение именно от этой гетерогенности своего профессионального статуса. На подобных ситуациях стоит остановиться особо, так как они, возможно, являются если не преобладающими количественно, то все же достаточно типичными и специфическими для какой-то части российского среднего, или протосреднего класса.
Следует заметить, что неоднозначность или противоречивость индивидуальных профессиональных статусов отнюдь не родились вместе с возникновением постсоветской рыночной экономики. В советское время изъяны бюрократического планирования подготовки кадров и оплата труда, часто не зависевшая от полученного образования, нередко приводили к расхождению между формальным профессиональным статусом работника и его материальным статусом (или профессиональным образованием и выполняемой работой). Так, дипломированные инженеры часто получали меньше, чем квалифицированные рабочие, что побуждало их, обходя запреты, наниматься на работу в качестве слесарей или токарей.
Примером подобной «профессиональной карьеры», получившей своеобразное продолжение в постсоветских условиях, может случить трудовая биография одного из наших респондентов. Это 47-летний житель Нижнего Новгорода, получивший среднее техническое образование: он окончил строительный техникум по специальности «архитектура». Выбор профессии, очевидно, был обусловлен тем, что у респондента есть художественные способности и тяга к искусству. Уже после окончания техникума он без отрыва от производства приобрел специальность дизайнера по товарам народного потребления, работал в бюро технической эстетики, занимался проектированием игрушек. Дальнейшую свою судьбу описывает так: «...квартиру я начал строить кооперативную, а зарплата у нас, технических работников, была сто сорок, сто пятьдесят ~ «потолок», а мне за квартиру платить надо было. Куда деваться? Туда, где платят». Дизайнер устроился работать грузчиком на железной дороге ~ «сразу двести двадцать. Со ста тридцати-то пяти, это очень приличная была зарплата, спокойно, по крайней мере, жить начал». Потом он освоил специальность слесаря-ремонтника по насосам и теперь работает в этом качестве на большом заводе. И одновременно подрабатывает ~ частично «по своим прежним профессиям» («строительство зданий, офисов, остекление лоджий»), частично «художественными» занятиями (вывески, реклама) ~ и... пишет картины и «для заработка, и для души».
«Дома вот картину пишу, ~ рассказывает респондент, ~ триптих... чувствую, затянется, долго что-то никак не идет... Летом памятники делал. Но вот сейчас я чувствую, может быть, я вернусь к тому, чем я занимался. Народ стал лучше жить, может, и заказы будут. Вот даже на заводе, там начальник знает уже, что я рисую, выставку мне предложил сделать, я несколько картин выставил, так рабочие уже заказывают, подходят, «мне вот такую картину, Сань, мне вот такую». Сразу-то мы не можем отдать 2000, так в рассрочку. Получше жить стали... А два-три года назад я еще об этом не думал (интервью проводилось в 1999 году. ~ Г.Д.)... Т.е. уже есть, кому это нужно. Вот ведь когда коммунисты были, это не нужно было. Но сейчас народ стал лучше жить, и запросы другие... К культуре стал оборачиваться человек» (на его заводе положение меняется к лучшему, недавно было повышение зарплаты).
Совокупный средний доход рабочего-художника от всех его занятий невелик ~ в среднем 1 500 руб. в месяц (1 000 руб. на заводе, остальное приработки). Достаточным для себя доходом считает 2 000 руб., но и нынешним более или менее удовлетворен ~ «человек никогда не бывает доволен, но я считаю, что сейчас у меня все нормально». Главное, что его устраивает в основной заводской работе ~ стабильность, уверенность. И именно этими характеристиками он определяет свой не вполне средний (третья-четвертая ступенька социальной лестницы), но близкий к нему социальный статус: «...простой рабочий человек, у которого есть зарплата определенная, стабильный доход. Небольшой. Ну, средний. Все равно нам повышают понемногу... Я спокоен, я уверен в своей работе, больше всего это мне нравится». И эта стабильность на основной работе позволяет ему, как он полагает, заниматься искусством. Удовлетворяет его и содержание работы, и возможность самореализации («могу придумать что-то такое»).
По характеру своей деятельности и психологии художник-рабочий включен одновременно в две социально-экономические структуры: «старую» и «новую», квазирыночную. В соответствии с традиционными нормами первой, он имеет гарантированную работу и доход, а выступая как индивидуальный товаропроизводитель, участвующий в конкуренции (респондент упоминает о конкурентной борьбе на рынке рекламы), удовлетворяет той же деятельностью и свои творческие потребности. Найденный им способ адаптации вполне гармоничен: различные виды деятельности взаимно дополняют друг друга. Это одновременное пребывание в старой и новой социальной ситуации порождает несколько противоречивую оценку респондентом изменений последних лет: с одной стороны, как мы видели, ему кажется, что народ стал жить лучше, чем при коммунистах, возросли культурные запросы, с другой ~ утверждает, что «преобразований никаких» не произошло, «ничего не изменилось, только безнаказанность больше стала». По своей социальной и экономической ситуации этот человек находился ранее, так сказать, на дальних подступах к старому среднему классу, а теперь, сохранив эту позицию, приближается к новому. Причем ему удается объединить преимущества обоих статусов ~ стабильность первого и возможности свободной инициативы и самовыражения, даваемые вторым.
Другая респондентка из Нижнего Новгорода, 46-летняя административная служащая научно-исследовательского института, также действует одновременно в двух структурах, но, в отличие от рабочего-художника, и по материальному положению, и по жизненным проектам, интенциям ближе к новому, чем к старому среднему классу. В прошлом она проделала типичную советскую карьеру: окончила политехнический институт, работала по специальности, а потом стала заведующей отделом кадров института. На этой должности находится в настоящее время и одновременно работает в туристической фирме, занимается посреднической торговлей продовольственными товарами и собирается основать собственное производственное предприятие. Доходы ее крайне нестабильны: в 1998 году получалось 16 000, а в 1999-м ~ 6 000 руб. в месяц. Желательный доход, как и у предыдущего респондента, не особенно сильно превышает реальный ~ 10 000 руб. в месяц.
Многообразие занятий респондентки обусловлено прежде всего материальной необходимостью, в особенности тем, что она хочет дать хорошее образование детям. Этот образ жизни для нее труден: «...когда разрываешься на несколько работ, это трудно физически... и морально я от этого страдаю». Однако из дальнейшего разговора выясняется, что «новая работа» ее «привлекает... Я ищу что-то в ней интересное... Если я даже голодная буду, на рынке стоять не буду, я выбираю по интересам эту работу и нахожу в ней удовольствие». При этом она крайне негативно оценивает постсоветские преобразования, политически симпатизирует КПРФ.
На примере двух нижегородцев видно, что путь из старого среднего или ниже среднего в новый «рыночный» средний класс не обязательно стимулируется какой-то специфической, адекватной этой новой ситуации, системой мотивов и ценностей человека. Например, стремлением к независимости или богатству, особой предприимчивостью, вкусом к авантюре и риску. Многие встают на этот путь в поисках элементарной адаптации к усложнившимся условиям жизни. Потребность в стабильности в условиях возросшей дестабилизации побуждает их держаться за старые структуры и статусы, выполняющие роль «крыши» или убежища, дающего реальную или иллюзорную защиту от превратностей рыночной стихии. Но в то же время для какой-то части этих людей «рыночные» способы выживания или умножения дохода не становятся лишь обременительной нагрузкой: они используют эти занятия как сферу самореализации, проявления личностной автономии, инициативы, способностей, либо подавлявшихся ранее условиями труда или жизни, либо развившихся вновь в процессе адаптации. И осуществление таких занятий становится самостоятельной потребностью, реализация которой является источником удовлетворения и самоутверждения индивида. Характерно, что оба нижегородца считают себя успешными, состоявшимися людьми и объясняют этот успех собственными индивидуальными свойствами: рабочий-художник ~ «талантом», женщина-служащая ~ оптимизмом и «любопытством» к новым видам деятельности, тем, что она ищет в них «что-то интересное». Именно эта психологическая связь между относительно свободной, самостоятельно выбранной трудовой деятельностью и личностными способностями, задатками, потребностями образует наиболее глубокую основу интеграции таких людей в новый средний класс. Эта связь одновременно подчеркивает и первостепенное значение индивидуальных факторов рекрутирования этого класса, той стихийной селекции, в результате которой формируются новые членения социальной структуры общества.
Людей, находящихся в подобной «гибридной» ситуации, объединяет со многими представителями массовых групп интеллигенции особый тип хабитуса: парадоксальное сочетание активности в коммерческих видах деятельности с низким уровнем материальных, «денежных» аспираций и ожиданий, с высоким иерархическим статусом нематериальных (по западной терминологии, «постматериальных») потребностей. Напомним, что речь идет только о наших респондентах, и данный вывод может не найти подтверждения при более репрезентативных выборках. Но даже если это так, остается в силе предположение, что мы имеем в данном случае дело с явлением, в той или иной степени характерным для российского среднего класса и образующим специфическую особенность некоторых его групп.
Глава III
«РЫНОЧНЫЙ» КЛАСС
Различные группы «старого» советского протосреднего класса, с представителями которых мы познакомились в предыдущей главе, выступают как своего рода «исходный материал» для формирования среднего класса постсоциалистического общества. Понятно, что эту свою классообразующую роль они реализуют лишь постольку, поскольку, не меняя своего профессионального статуса, вовлекаются в тех или иных формах ~ индивидуально или в составе своих трудовых коллективов ~ в структуры рыночной экономики. Решающий или по меньшей мере один из решающих критериев выделения среднего класса как в научном анализе, так и в массовом сознании ~ это критерий экономический, а данный критерий в условиях перехода к рынку перестает зависеть от места человека в структуре отношений власти, как это было в условиях социализма. В современной российской социологии при анализе новой стратификационной структуры, экономические параметры классовой ситуации людей и групп увязываются с их рыночными позициями; «принадлежность к классу определяется жизненными шансами на рынках товаров и рынке труда» (В. Радаев). Данный подход можно признать адекватным условиям рыночной экономики; он основан на концепциях социальной стратификации М. Вебера и социологов неовеберианского направления, для которых ключевым является понятие «рыночной ситуации», включающее отношение к собственности, образование и квалификацию людей, определяющие их возможности на рынке [48, с. 47 (веберианской и неовеберианской концепциях социальной стратификации см.: Crompton R. Class and Stratification: An Introduction in Current Debates [78, p. 33, 64].)].
«Вхождение в рынок» представителей «старых» групп среднего класса, наемных квалифицированных специалистов происходит прежде всего в результате вынужденной адаптации к изменившейся социально-экономической ситуации. Как мы видели, вызванные вначале необходимостью выживания «рыночные» способы жизнедеятельности становятся затем для многих из них психологически комфортными и самоценными. Тем не менее, поскольку для постсоветской России характерно сосуществование как новой, рыночной, так и унаследованной от социализма и испытывающей разносторонний кризис старой социальной структуры (локализуемой в основном в госбюджетных учреждениях, а также и на государственных предприятиях) [56, с. 124], сохраняются и условия для связи формирующегося среднего класса с этой старой социальной структурой.
Эти связи могут носить как объективный, так и психологический характер. В первом случае они выражаются в совмещении различных видов трудовой деятельности или (и) формальной и неформальной занятости; в сочетании официальной зарплаты с коммерческими доходами. Во втором случае работник психологически стремится к сохранению прежнего социально-профессионального статуса в госучреждении или на предприятии «социалистического» типа, видя в нем некую (нередко довольно призрачную) гарантию стабильности своего положения в обществе, пусть маленького, но постоянного дохода, престижа, достоинства. Некоторые представители вполне «рыночных» профессий рассматривают свои нынешние занятия как социальную деградацию и мечтают о возвращении к прежней работе (это характерно для многих «челноков», бывших в прошлом учителями или инженерами; один из наших петербургских респондентов ~ собственник малого предприятия по производству скобяных изделий, доктор физико-математических наук ~ охотно вернулся бы, по его словам, к научной работе, если бы она приносила минимально необходимый заработок).
Следует, наконец, учитывать еще одно важное обстоятельство: многие наемные специалисты пополняют ряды складывающегося постсоветского среднего класса, не испытывая сколько-нибудь существенных изменений в характере и содержании своей профессиональной деятельности. Это может происходить, например, в силу коммерциализации (полной или частичной) их организаций и предприятий или профессий (как в здравоохранении и в образовании) или сохранения относительно высокого материального и социального статуса в рамках старых «некоммерческих» профессий (что характерно для части государственных служащих, работников правоохранительных органов и т.д.). Все эти группы могут быть отнесены к «старой» части среднего класса или к части, промежуточной между «старой» и «новой».
В настоящей главе речь пойдет о тех его частях, которые с наибольшей определенностью могут быть идентифицированы как новый постсоветский средний класс. К ним принадлежат непосредственные агенты рынка ~ все те, кто по своему материальному положению и другим параметрам относится к средним слоям. Они являются профессионально участниками рыночных отношений, т.е. не просто осуществляют производство и распределение сбываемых на рынке товаров и услуг, но обеспечивают их соответствие требованиям рынка, реализацию рыночной прибыли. В широком смысле агентами рынка являются все, кто производит, распределяет и покупает те же товары и услуги, а также все наемные работники, выступающие в качестве продавцов на рынке труда. Поскольку речь идет о новых средних слоях, данное понятие употребляется не в этом широком, а в гораздо более узком смысле: профессиональные участники рыночных отношений ~ это те, кто своей профессиональной деятельностью осуществляет их функционирование, обеспечивает рыночный характер и цели процессов производства и распределения.
К подобного рода агентам рынка относятся предприниматели, самозанятые работники сфер производства и услуг, менеджеры предприятий, производящих товары и услуги, реализуемые на рынке, специалисты и служащие, непосредственно осуществляющие рыночные операции. Все эти социально-профессиональные категории являются действительно новыми для российского общества: частное предпринимательство и самостоятельная трудовая деятельность в советское время если и существовали, то в качестве «теневых» или маргинальных занятий. Что же касается управленческого труда, то, подчиняясь нормам и «правилам игры» планово-распределительной экономики, он качественно отличался от труда менеджеров современных коммерческих предприятий.
Отметим, что предлагаемое понимание «старых» и «новых» средних слоев отличается от применяемого в ряде отечественных исследований, в которых понятия «традиционные» и «новые» слои выступают в том же смысле, что и в западных работах по социальной стратификации (традиционные ~ это мелкие предприниматели, новые ~ наемные квалифицированные специалисты и менеджеры) [52, с. 58~59]. На наш взгляд, совершенно иной, чем на Западе, вектор социально-экономической динамики переходного общества делает невозможным простое заимствование этих терминов в их «западном» смысле (см. цитированное выше замечание Балзера).
По своему удельному весу в постсоветском среднем классе эти новые социально-профессиональные группы значительно уступают его «старым» компонентам. Так, по данным РНИСиНП, в собственно среднем классе доли предпринимателей, имеющих наемных работников и руководителей, составляют по 12~13% (доля руководителей чисто коммерческих предприятий, очевидно, еще меньше), доля представителей семейного бизнеса ~ 6,4%, а большинство ~ 52% ~ составляют «старые» средние слои ~ квалифицированные специалисты и рабочие. Правда, в значительно менее многочисленном верхнем слое среднего класса соотношение меняется: здесь большинство (51%) составляют руководители высшего звена и предприниматели, использующие наемных работников [53, с. 91]. По данным ВЦИОМ, основанным, как отмечалось, на самоидентификации опрошенных, доля представителей новых средних слоев в средней и высшей частях среднего класса еще меньше ~ всего 6% «руководителей» в первой и 16% во второй (предприниматели в публикации специально не выделены, лишь отмечается, что две трети владельцев частных предприятий и самозанятых специалистов относят себя к среднему слою) [36, с. 26].
По подсчетам Бюро экономического анализа (БЭА), малые предприниматели, включая тех, для кого бизнес является дополнительным занятием, составляют 4,3%, а самостоятельные работники 6,9% глав домохозяйств [52, с. 63]. В целом все эти цифры показывают, что «новые» средние слои при всем разнобое данных, полученных в различных исследованиях, ~ это лишь относительно малая часть реального или потенциального среднего класса.
Отечественные исследователи высказывают различные точки зрения по поводу роли отдельных социально-профессиональных компонентов среднего класса в его становлении и развитии. Так, Л.А. Хахулина полагает, что «развитие среднего класса в России будет связано с тем, каково будет материальное положение, самочувствие людей с образованием, занятых наемным трудом: в первую очередь, специалистов, менеджеров, ...занятых не только в эффективных секторах (кредитно-финансовом, торговом, информационном и пр.), но и в традиционных сферах занятости людей с образованием (производстве, науке, культуре, образовании)... Роль среднего и малого бизнеса, безусловно, оказывает свое влияние, но не играет основной роли в формировании среднего класса в России, принимая во внимание нынешнюю структуру производства и «зачаточное» состояние этого бизнеса» [52, с. 33].
Более осторожно высказываются по этому вопросу исследователи БЭА. Считая, что «с наибольшей долей вероятности» в средний класс входят два больших слоя: специалисты, чья работа требует высшего образования, и малые предприниматели, в отношении последних они намечают две возможных перспективы. «Станут ли малые предприниматели основой среднего класса или же останутся одним из его многочисленных слоев ~ вопрос исторического будущего и социально-экономической эволюции» [60, с. 12, 13].
На вопрос о перспективах, об историческом будущем той или иной социально-профессиональной группы, участвующей в формировании российского среднего класса, в настоящее время действительно трудно дать определенный ответ. В связи с этим стоит лишь отметить, что данный вопрос отнюдь не сводится к количественному соотношению таких частей и его возможному изменению. В наиболее развитых странах «новые» (по западным критериям) группы среднего класса, т.е. «белые воротнички», наемные специалисты, как правило, намного превосходят по своей численности малых и средних предпринимателей, но данный факт вовсе не означает, что эти последние играют второстепенную роль в социальной структуре. Ибо эта роль определяется, в конечном счете, не их массовостью и удельным весом, а теми функциями, которые они выполняют в системе рыночной экономики. В России становление эффективной экономики является решающим условием перехода от состояния кризиса, грозящего катастрофическими последствиями для страны, к нормальному поступательному развитию, а такая экономика, как свидетельствует всемирно-исторический опыт, может быть только рыночной. Если это так, в современном российском контексте особо важная и ответственная историческая роль принадлежит тем социальным группам, которые своей деятельностью непосредственно осуществляют развитие структур и институтов цивилизованного рынка. Наиболее крупные из этих групп принадлежат к средним слоям общества. Именно поэтому, помимо принятого членения формирующегося среднего класса по наиболее очевидным социально-профессиональным признакам ~ предприниматели, наемные специалисты и т.д. ~ нам представляется существенным выделение в его составе слоев, непосредственно осуществляющих рыночный бизнес («нового» среднего класса). Оба эти деления совпадают лишь частично: если все предприниматели входят в эти слои, то менеджеры и специалисты, выступающие в качестве агентов рынка, составляют лишь часть слоя наемных специалистов.
Необходимость подобного деления, равно как и недостаточность или даже неадекватность профессионально-квалификационного критерия при анализе состава среднего класса начинают признаваться в отечественной науке. Так, в исследовании БЭА отмечается, что, возможно, «следует... признать наличие внутри среднего класса двух групп, сходных по профессионально-квалификационным признакам, но весьма существенно различающихся по уровню и образу жизни, структуре потребления, социально-политической ориентации...» [52]. Фактически, как следует из предлагаемой исследователями более конкретной стратификации всей совокупности наемных специалистов, за всеми этими различиями стоят разнородные рыночные позиции отдельных составных частей среднего класса. Одна из выделяемых ими страт ~ это «высокооплачиваемые квалифицированные специалисты управленческого, финансово-экономического и юридического профиля, занятые в частном секторе экономики». По нашей классификации, эту страту можно отнести к новому среднему классу. Вторая страта ~ это более или менее держащиеся «на плаву» специалисты научно-технического профиля, занятые в ТЭК и других экспортных отраслях, третья ~ «предоставленные сами себе специалисты социального и гуманитарного профиля (т.е., очевидно, врачи и учителя. ~ Г.Д.), занятые в бюджетных отраслях». Авторы добавляют, что «расслоение происходит не только между частным и государственными секторами», что внутри одних и тех же секторов наблюдаются совершенно различные ситуации и социальные позиции работников одной и той же профессии и квалификации [52, c. 59, 60].
Это замечание, равно как и явная неполнота и неточность локализации различных страт (например, «на плаву» держатся отнюдь не только специалисты экспортных отраслей, «предоставлены сами себе» не только бюджетники «социального и гуманитарного профиля»), свидетельствуют о том, что на основе каких-либо формальных признаков (т.е. по тому, где и кем работает человек) крайне трудно поделить средний класс на группы, различающиеся по своим рыночным позициям. Тем большее значение приобретает конкретный анализ индивидуальных ситуаций.
СОБЛАЗНЫ И ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
Малые предприниматели ~ одна из наиболее исследованных групп постсоветского российского общества, научная литература о них насчитывает не менее двух десятков названий. Ниже мы остановимся на некоторых итогах этой исследовательской работы, теперь же обратимся к нашим респондентам, представляющим данный слой среднего класса.
Один из них ~ 40-летний мелкий предприниматель из Саратова, происходит из крестьян, по образованию юрист, работал в милиции, потом юристом в совместном предприятии, затем основал фирму по поставке запчастей. В момент беседы радикально меняет направление своего бизнеса, сделал, по его словам, бизнес-план, пытается его реализовать, ищет «инвесторов на уровне руководства области ~ дело перспективное». Другой наш бизнесмен ~ 38-летний москвич, получил высшее техническое образование, во время перестройки стал «по стечению обстоятельств» кооператором, теперь владелец фирмы с числом занятых, в зависимости от ситуации, от двух до пятнадцати человек.
Оба респондента как бизнесмены, по всей видимости, состоялись. Оба относят себя к средним ступеням социальной лестницы, саратовец ~ к четвертой, москвич ~ к «несколько выше средней». Практически они более или менее адаптировались к своей ситуации, об уровне же их психологической адаптации однозначно судить довольно сложно. С одной стороны, деятельность предпринимателя увлекательна, открывает возможности личностной самореализации. «Как всегда, ~ говорит о себе саратовский предприниматель, ~ надо быть чуть-чуть сумасшедшим. Чтобы за любую идею браться. Я набираю себе хлопот, забот, чтобы было интересное дело». Ценно для них и ощущение собственной свободы. Московский бизнесмен считает, что свободный человек ~ это «главное завоевание» перестроечных лет. «Я живу чуть-чуть получше своих родителей», ~ говорит его саратовский коллега. ~ Деньги, безусловно, дают свободу ~ я хочу быть свободным». И достигнутое в жизни, и будущее он оценивает скорее оптимистично: «У меня в жизни были успехи, которые позволяют мне при... финансовом положении, более шатком, чем раньше, достаточно спокойно жить. Прежняя удача, прежний опыт ~ он мне дает уверенность». Лет через пять-десять этот предприниматель надеется стать богаче. Рассчитывает при этом «только на себя, на свои идеи», верит в свою удачу.
С другой стороны, тот же бизнесмен на вопрос «как Вам живется сейчас в России?» отвечает не «нормально» или «терпимо», как большинство наших респондентов, но ~ «тревожно». Тем же настроением тревоги, страха, можно даже сказать, фрустрации проникнуты рассуждения москвича. Истоки их тревожного самочувствия двояки, довольно отчетливо делятся на «внешние» и «внутренние». Как говорит саратовский предприниматель, он испытывает и тревоги «субъективного плана», и те, которые обусловлены «влиянием общественных институтов, государственных» на его жизнь. Совершенно очевидно, что речь идет о трудностях адаптации к принципиально новой социально-профессиональной (предпринимательской) ситуации, во-первых, не обеспеченной, не защищенной институционально и поэтому воспринимаемой как угрожаемая, и, во-вторых, переживаемой субъективно как нормативно и морально неясная, двусмысленная, не опирающаяся на устойчивые социальные установки, легитимирующие предпринимательскую деятельность в самосознании самой личности.
Первая, «внешняя» сторона положения мелкого российского бизнесмена описывается респондентами в терминах экстремальной незащищенности. Это и неурегулированность его правовой ситуации, и непомерные налоги, произвол и мздоимство чиновников и милиции, и рэкет. «Это такая гадость, должен вам сказать, когда начинаешь магазин оформлять, начинают всякие инспектора ходить... Издаются одни указы, потом другие приходят распоряжения, противоречащие первым, и человек начинает метаться...» Это слова саратовского бизнесмена. А предприниматель-москвич говорит о «правилах игры, за которыми не всегда успеваешь не то чтобы следить, а просто принимать их или не принимать». В то же время этот респондент склонен объяснять «отрицательную» (по сравнению с перестройкой) динамику положения малого бизнеса преимущественно экономическими причинами. Видимо, он имеет в виду раздел рынка более сильными, в том числе криминальными коммерческими структурами, узость экономического пространства, на котором вынужден действовать мелкий бизнесмен: «Открывать-то сейчас нечего: конфеты? колеса? машины? пекарни? Все роздано... Палатку поставить ~ вот единственное, что остается».
Неудовлетворенность «внутренним», психологическим содержанием жизни выражается у наших респондентов в смутном ощущении ее моральной неполноценности. Трудно сказать, отчего оно происходит: то ли от непреодоленного наследия советских идеологических стереотипов, то ли от прессинга общественного мнения, в значительной своей части негативно воспринимающего частный бизнес. Не исключено также, что это ощущение порождает «подводная», нелегитимная сторона предпринимательства, о которой респонденты, конечно же, не рассказывают интервьюеру. Надо вообще заметить, что речь обоих предпринимателей отличается от ответов других респондентов, в том числе менее образованных и интеллектуально развитых, большей сбивчивостью, она изобилует туманными намеками, недоговоренностями. Наверное, это связано и с невозможностью для них вполне откровенного рассказа о своей жизни, и с трудностями отчетливой социальной самооценки.
Саратовский предприниматель не без гордости говорит о себе, что он «как-то совок из-за спины вытащил». Но затем признается, что его «тревожит раздвоенность... я пробовал, занимаясь делом, работой, исповедовать принцип разумной достаточности, это уже вопросы нравственные, вопросы философии, ... религии даже». «Раздвоенность», как можно понять, происходит оттого, что в силу своей социально-экономической ситуации он вынужден жить ради денег, а его это не устраивает: «разумная достаточность» ~ способ как-то ограничить собственную устремленность к барышу, подчинить ее более достойным, более высоким целям. На вопрос: «Какие проблемы Вас беспокоят?» ~ он отвечает: «...обрести смысл жизни, ради чего ты живешь. Жить для близкого... Чуть-чуть кому-то помог ~ тебе легче. Подели тяготы другого, кто ниже тебя... Тебе легче будет жить. А цель, конечно, тоже есть... Семья. Жить ради семьи». Однако ни забота о благе семьи, о будущем детей, ни эпизодический альтруизм не обеспечивают «разумную достаточность», т.е. баланс эгоистически-стяжательских, «достижительных» и нравственных мотивов личности. «Для меня высший принцип ~ это семья, материальное благополучие семьи, ~ рассказывает респондент. ~ И я пойду на компромиссы для того, чтобы этого достичь... А потом случается, что за этими компромиссами теряешь самого себя, ...сам себе предатель становишься... Идя на компромиссы, конечно же, в душе потом ~ грешу и каюсь».
Конфликт реальной жизни и нравственного идеала этот предприниматель осознает в двух планах: и как результат давления на личность социальных условий, и как столкновение противоположных «внутренних» личностных тенденций. Россия, говорит он, «это страна, в которой можно забыть о законности, о морали... Как можно жить, когда такая бездуховность в обществе... У кого денег больше, у того и правда». А во «внутреннем» плане респондента пугает конфликт между ценностями нравственности и свободы: «Деньги дают свободу, приходится стараться жить лучше и зарабатывать больше». И хотя он пытается найти решение конфликта, акцентируя высокий уровень собственного нравственного сознания («у меня морали, нравственности достаточно, чтобы не употребить эту свободу во зло»), однако непреодоленная необходимость «грешить и каяться» обнаруживает неэффективность такого решения.
Все эти откровения саратовского комммерсанта невольно побуждают вспомнить о традиционном архетипе русской ментальности, сочетающей стремление к «воле» ~ разгул нелегитимных страстей, своего рода психологическую стихию ~ с ясным сознанием неправедности собственной жизни, с чисто русской апелляцией к совести, к моральному сознанию, которое никак на практике эту стихию не ограничивает и побуждает лишь к столь же страстному покаянию. Вряд ли, однако, живучесть этого архетипа можно объяснить только культурной наследственностью, так сказать, социально-исторической генетикой: он воспроизводится в конце ХХ века потому, что воспроизводятся порождающие его социально-культурные условия. Структурированность, сбалансированность, устойчивость мотивов и ценностей личности не может быть достигнута без необходимой для этого когнитивной и культурной основы ~ социальных знаний, представлений о нормативных и социально-признанных «правилах игры», обеспечивающих оптимальную, устойчивую комбинацию этих мотивов и ценностей.
Западный «экономический человек» не терзается подобно русскому (или терзается несравненно меньше его) внутренними сомнениями и угрызениями совести не потому, что он более аморален, но потому, что глубоко усвоил выработанные культурой правила, представляющие для него нечто само собой разумеющееся и, кстати сказать, эволюционирующие вместе с развитием общества. В России же вновь и вновь повторяется фаза перехода от застоя к реформированию, и эти правила каждый раз вырабатываются заново. В результате русский человек вновь и вновь оказывается в ситуации нормативного и когнитивного вакуума ~ общество не коммуницирует ему знаний о социально приемлемых формах его жизнедеятельности. Предприниматель, который по самой природе своей профессии вынужден максимально использовать индивидуалистическую стратегию, особо остро ощущает эту неурегулированность социально-культурных ограничителей индивидуальных устремлений. Используя терминологию З. Фрейда, можно сказать, что «я» русского бизнесмена испытывает дефицит контролирующих импульсов «сверх-я», т.е. культурных норм, чем и объясняется неустроенность, неустойчивость его самосознания.
Во всяком случае, наш саратовский респондент достаточно отчетливо ощущает этот дефицит нормативных знаний. Он говорит о трудностях, которые испытывает человек, постоянно находящийся «перед выбором стандартов поведения, решений», ему хотелось бы в этом выборе уметь различать «черное» и «белое», но так не получается, и «ты не можешь свою линию выбрать».
Конечно, достаточно трудно говорить о социальной типичности подобного сомневающегося и кающегося бизнесмена. Любому из нас гораздо лучше известен тип «нового русского» ~ «крутого» дельца, легко переходящего грань между законным и криминальным бизнесом, чуждого каким-либо моральным императивам и нередко использующего наемных киллеров как орудие рыночной конкуренции. Тем не менее, было бы неправильно считать саратовского экс-юриста неким раритетом, во всяком случае, для среды интеллигентных мелких предпринимателей. Склонность к морально-ценностной рефлексии ~ черта национального характера, отнюдь не исчезнувшая в советские времена. Ее закрепляет, в частности, довольно высокий образовательный уровень ряда массовых слоев российского общества, а также весьма активное педалирование темы «бездуховности» в российских СМИ.
Косвенным подтверждением сказанному может служить мелкий предприниматель-москвич. Не имея, в отличие от саратовского коммерсанта, гуманитарного образования и опыта правоохранительной деятельности, он не склонен ни к размышлениям на морально-этические или «философские» темы, ни к поискам смысла жизни. Но и в его рассказе, скорее на «подкорковом», эмоциональном уровне также выражена внутренняя противоречивость мотивов и ценностей. Эту тему он затрагивает в контексте разговора о социальных связях в предпринимательской среде. С одной стороны, по его признанию, его тянет, или, по меньшей мере, тянуло в прошлом, к близости с кругом наиболее богатых и сильных ~ тех, кто действительно хозяйничает в экономике. Такая близость, как можно понять из его слов, тешит самолюбие и «полезна для карьеры». Но в то же время что-то отталкивает его от этого круга. «Как это делается, ~ говорит он о личных связях в среде бизнеса, ~ это плохо.... Я...знаю, когда публика собирается», но «даже не хожу в последнее время... Слишком уж не хочется видеть напротив себя такую вот рожу, ...просто не хочется». Респондент не разъясняет, почему не хочется, однако более или менее очевидно, что для него мало приемлема психологически необходимость поддерживать «в интересах дела» функциональные связи с людьми, лично ему не симпатичными.
В обществе со сложившимися социальной структурой и ролевыми функциями внутри каждой группы функциональные отношения между людьми «своего круга» более или менее четко дифференцируются от эмоциальных дружеских отношений. В России, где для многих «рядовых людей» близкие межличностные отношения, «своя компания» ~ это традиционно отношения приятельские или дружеские, такая дифференциация затруднена; у человека, подобного нашему бизнесмену, возникает конфликт между социальной ролью и аффективной сферой личности. Сказывается уже отмеченное отсутствие развитой системы правил социального поведения.
Еще один московский мелкий предприниматель ~ 29-летний коммерсант, занимается розничной торговлей продовольственными товарами на рынке, нанимает нескольких продавщиц. Окончил Московский станко-инструментальный институт по специальности «системотехника», учился хорошо, увлеченно. Бизнесом начал заниматься в 1991~1992 годах, когда был студентом старших курсов, под влиянием, главным образом, «материального стимула» и общей атмосферы тех лет, когда, как рассказывает респондент, начался взлет коммерческой деятельности и многие, в том числе «более взрослые люди» стали заниматься ею и зарабатывать большие деньги. Ему, 20-летнему, ~ дает понять бывший инженер (какое-то время он работал по специальности) ~ трудно было не поддаться этому соблазну. В его рассказе не звучит какое-либо сожаление об оставленной прежде увлекавшей его специальности, хотя он и признает, что «разбирался» в ней лучше, чем в коммерции. Этот отказ от своего интеллектуального капитала он оправдывает в собственных глазах ссылкой на объективные обстоятельства: техника развивается быстро, и те знания, которые он приобрел в вузе, теперь, наверное, уже устарели («все уже могло давно поменяться»).
Основа этой психологической интеграции в новую профессию ~ все тот же «материальный стимул». Жена респондента ~ преподаватель английского в специализированной школе, зарабатывает также на частных уроках, детей у них нет, месячный доход на члена семьи ~ более 500 долларов. Этот доход «в принципе» его устраивает, желательный оптимум превышает его не больше, чем в два раза («я ~ реалист, я понимаю, что больше тяжело достичь, но было бы неплохо на человека иметь по тысяче долларов»). В семье два автомобиля отечественного производства, супруги часто ездят отдыхать за границу: муж побывал в семи странах, жена в четырнадцати. Чувствуется, что эта, по социологической терминологии «досуговая», сторона жизни его увлекает, ему нравится «ездить, смотреть», и возможность удовлетворять такого рода потребности ~ одна из главных основ позитивного в целом восприятия им собственного положения. В целом респондент оценивает его как стабильное: «...я ощущаю стабильность ...и завтра буду ощущать в принципе... Финансовая стабильность у нас есть, жильем мы обеспечены...»
Интересы респондента в основном вращаются вокруг материальной обеспеченности и доставляемых ею «потребительских» радостей. На вопрос интервьюера: «Что вас больше всего интересует в жизни?» ~ он отвечает: «...получить и посмотреть то, что еще не имеешь и не видел, ...ну, скажем, в материальной области продать свою машину, которой несколько лет, и купить новую получше».
Московский коммерсант всего на 10~12 лет моложе двух своих старших коллег, о которых речь шла выше, но он являет собой во многом отличный от них психологический тип российского мелкого бизнесмена. Какое-то значение здесь могут иметь индивидуально-личностные особенности, но все же решающим фактором неодинакового восприятия ими практически аналогичной социально-профессиональной ситуации представляется принадлежность к разным, резко различающимся по жизненному опыту поколениям. Старшим коммерсантам в период конца перестройки и развала реального социализма было 30~32 года, они имели значительный опыт жизни при старой системе, традиционный для советского образованного слоя профессиональной деятельности; став бизнесменами, они неминуемо должны были пережить конфликт старой и новой ценностных и мотивационных ориентаций. У младшего респондента был в то время лишь опыт интеллектуально содержательной, но материально бедной студенческой жизни (он приехал учиться в Москву из украинской деревни и вряд ли имел большую материальную поддержку от родителей). И в случае работы по полученной специальности ~ в качестве рядового инженера ~ он, это было очевидно, не мог ожидать высокого благосостояния. Возможность быстрого обогащения в бизнесе, который представлялся легкодоступным в обстановке «рыночной» эйфории начала 1990-х, воспринималась им и многими его сверстниками по контрасту с бедностью прошлого и ближайшими жизненными перспективами начинающего специалиста. Поэтому стремление к обогащению стало мощным фактором относительно быстрой и радикальной перестройки сознания, всей системы мотивов и ценностей, подчинения их материальным приоритетам. В результате по уровню психологической адаптации к ситуации мелкого бизнесмена младший коммерсант значительно превосходит своих старших коллег.
Эта адаптация последовательно структурирует морально-этическую сферу личности. Респондент сначала просто не понимает вопроса интервьюера о внутренних конфликтах, которые ему приходится переживать в профессиональной деятельности, а после разъяснений говорит, что таких конфликтов у него не возникает, а бывают лишь объективные трудности, когда что-то «не гладко идет, и это устраняешь как-то, либо сглаживаешь». Его этическое сознание лишено противоречий и комплексов, так как основано на вполне сознательной, рациональной адаптации личных норм к существующим в обществе «правилам игры». На вопрос интервьюера он отвечает, что всегда честным быть не может, «потому что нас общество искривило в этом плане. Если я предприниматель ~ я уже нечестный, иначе я ничего не получу, ничего не заработаю... Я понимаю, что если я не плачу налоги, то я нечестен по отношению ко всему обществу... Я не ощущаю перед собой никакой вины, потому что, если бы я работал честно, я бы давно уже разорился». Иными словами, нечестность принимается как осознанная социальная и личная норма, что, однако, отнюдь не означает этического цинизма. Напротив, честность и порядочность респондент считает важнейшими морально-этическими нормами, но на основании опыта убежден, что они неприменимы до конца к условиям его профессиональной деятельности.
Столь же непротиворечивы и ясны представления респондента о социальной стратификации и своем месте в ней. Он относит себя к средней ~ пятой ~ ступени социальной лестницы, и единственным критерием такой идентификации считает уровень жизни, все же остальные параметры социального положения людей определяет как производные от «толщины кошелька»: «...чем у человека больше финансов, тем у него и больше возможностей престижную работу иметь». Уровень образования, считает респондент, «потерял свое значение»; например, профессор профессору рознь... Хороший профессор, который адаптировался, ...зарабатывает гораздо больше меня; он может стоять и выше, а профессор, который остался просто профессором и преподает на кафедре и дотягивает до пенсии ~ он стоит ниже меня».
Несмотря на эту ясность и стройность представлений респондента, его оценки собственной социально-профессиональной ситуации не лишены противоречий. С одной стороны, он говорит об ее стабильности, с другой ~ многие его суждения мало чем отличаются от сетований первых двух предпринимателей. Он жалуется, при этом отрицая сказанное несколькими минутами раньше, на отсутствие стабильности, невозможность для предпринимателей строить какие-либо долгосрочные планы («это ~ бесполезное занятие», «мы живем сегодняшним днем»), на то, что 90% их заработков «расходится на чиновников и на...» (здесь респондент сам себя обрывает, по-видимому, не решаясь назвать вслух то ли рэкетиров, то ли милицию). «Больше всего, ~ говорит он, ~ не устраивает то, что невозможно сделать какой-то стабильный бизнес на многие годы. Читаешь как [на Западе] дед занимался, строил двигатели, потом сын, потом внук. И это все передается ~ фамилия, завод... А у нас этого нет. У нас сегодня хозяин один, завтра власть поменялась ~ хозяин другой. Не живешь, а работаешь, как на пороховой бочке. Т.е. я внутренне готов к краху в любой момент, т.е. я всегда работаю, но я всегда знаю, что я потеряю то, что у меня, допустим, вложено».
Все это не мешает коммерсанту смотреть на жизнь оптимистично: «...я радуюсь, когда что-то получилось..., а если не получилось, значит, так оно и должно быть». Вопреки собственным жалобам считает, что у него «мелкий бизнес с небольшим стабильным доходом и без больших неожиданностей». Смысл этих суждений, очевидно, в том, что респондент уверен в своей способности адаптироваться именно в своем качестве бизнесмена к неблагоприятным условиям, в которых находятся люди его профессии: «Сегодня такие условия, значит, мы работаем в таких, ...завтра другие условия ~ мы работаем в других условиях. Т.е. как нам скажут, а мы пролезем всегда. Это, кстати, очень многие, многие к этому способны». Коммерсант, в общем, без особого ущерба преодолел ситуацию, вызванную кризисом августа 1998 года, и это, по-видимому, укрепило его оптимизм.
Эта уверенность в способности к выживанию в любых условиях, похоже, покоится не только на вере в собственные силы, но и на том, что респондент полностью идентифицирует себя со своей профессией, целиком интегрирован в нее, просто не представляет себя вне бизнеса. Предприниматель, говорит он, «это даже и способ мышления... это зависит от внутреннего мира человека, т.е. я ощущаю стабильность... и завтра буду ощущать в принципе». Речь идет, стало быть, не о стабильности объективной, не о ситуации, а об устойчивости мотивов и установок личности, способной преодолеть все помехи, этой ситуацией создаваемые...
Эти предпринимательские установки у респондента настолько сильны, что они как бы проецируются на его макросоциальные представления и видение исторического будущего страны. Он, похоже, верит и в неистребимость малого бизнеса («мы пролезем всегда») и в перспективы нормальной, цивилизованной рыночной экономики в России («в принципе все утрясется... на самом деле я думаю, что, если заглянуть далеко вперед, лет на десять-пятнадцать, то... не будет таких больших колебаний... Когда наступит период равновесия, то в принципе будет так же, как и везде»).
Если не в морально-этическом плане, то с точки зрения отношения к своей профессии молодой московский коммерсант в чем-то приближается к идеотипу западного бизнесмена. Конечно, он не носитель протестантской этики в том виде, в каком она нам знакома по классическому описанию М. Вебера (респондент, кстати, чужд религии), но по меньшей мере воплощает одну из ее существенных черт ~ бизнес является для него призванием. А также и другую черту ~ ориентацию на успех, измеряемый деньгами. Он отчетливо сознает эту роль денег в своей мотивации: «...когда, ~ рассказывает он, ~ наступило такое время, что ты можешь заработать своим умом... и трудом в сумме какие-то хорошие деньги, то это стало интересно... и на самом деле приятно». По словам коммерсанта, в работе его больше всего удовлетворяет результат: «...вот если ты что запланировал, а потом это дело получилось, то это просто очень приятно и больше всего удовлетворяет ~ даже не сами деньги». Последнее замечание не случайно: респондент понимает, что в принципе успех может выражаться и не в деньгах («а если результат не деньги, то это все равно хорошо, т.е. можно работать и за идею»), но такой, измеряемый идеальными ценностями успех ~ это для других, а для него решающий критерий ~ все же деньги («хорошо, когда идея совместилась с деньгами»).
Можно сказать, что перед нами здесь предстает тип личности, по существенным параметрам соответствующий идеотипическим чертам «экономического человека», агента рыночной экономики. В появлении подобного типа личности среди младшего поколения россиян воплощается тот процесс «модернизации человека», который, как отмечалось выше, возможно, представляет собой одну из наиболее существенных особенностей современного этапа трансформации российского общества.
Естественно возникает вопрос: насколько этот новый человек способен модернизировать не только самого себя, но и экономические, социальные, политические структуры общества, его нормативно-ценностную систему? Если исходить из случая нашего респондента, ответ получится достаточно неоднозначный.
С одной стороны, очевидно, что, коль скоро люди этого типа ~ и тем более люди молодые ~ образуют пусть пока миноритарный, но достаточно весомый слой общества, само его существование (и потенциальное расширение по мере смены поколений) гарантирует сохранение рыночных структур, сложившихся в России к концу ХХ века, делает необратимым достигнутый ею уровень модернизации, обеспечивает переход от старых государственно-социалистических социально-экономических структур к новым, рыночным.
С другой стороны, довольно сомнительна способность рыночных акторов данного типа стимулировать дальнейшее продвижение модернизации по сравнению с существующим, по всеобщему признанию, крайне низким и неудовлетворительным ее уровнем. Возвращаясь к нашему респонденту, отметим, что для выполнения функций полноценного «классического» агента рынка ему не хватает динамической, инновационной составляющей, установок на обновление, рост, развитие. «С годами, ~ признается он интервьюеру, ~ все меньше желания [достичь большего] ...как говорит моя жена, «ты все больше к старику приближаешься». Эта выразительная деталь семейного диалога подтверждает, что потребность в стабильности, в сохранении достигнутого (дохода от арендуемой на рынке «торговой точки») подавляет у респондента потребность в дальнейшем движении, в деловой карьере, а следовательно, инновационную инициативу. Это не вина его, а беда, результат давления на бизнес неблагоприятных для него институциональных условий и криминальных «правил игры».
«В данный момент, в последние два года, ~ объясняет он скромность своих притязаний, ~ предпочтительнее...заниматься мелким бизнесом... Хотелось бы мечтать о собственной сети магазинов, но с Россией это не связано... потому что это очень криминально... Если ты владелец сети магазинов, то тебя все знают. Моя работа мелкая ~ вот я на рынке, я плачу аренду, и меня никто не знает... А вот магазины ~ они уже больше на виду, ...туда уже наведываются. Чем больше ~ тем хуже». Кто именно наведывается, понятно без дальнейших разъяснений. Эта узость деловых возможностей и горизонтов московского коммерсанта, опасности, которые грозят ему со всех сторон, ~ достаточно типичная черта положения российского малого бизнеса. По данным В.В. Радаева, осуществившего ряд репрезентативных социологических исследований по данной теме, 40% мелких предпринимателей сталкиваются с угрозой применения силы в деловых отношениях, две трети ~ с вымогательствами со стороны чиновников. В широких сегментах рынка коррупция «превратилась в элемент повседневных хозяйственных отношений», причем одни предприниматели «откупаются от чиновников, другие подкупают их, пытаясь получить какие-то льготы и привилегии». Все это, в совокупности с экономическими трудностями: тяжестью налогов, невозможностью получить кредит, по наблюдениям Радаева, приводит к тому, что «многие руководители малых предприятий с головой погружены в проблемы выживания... А чисто профессиональные, инновационные мотивы... зачастую вынуждено перемещаются на второй план» [48, с. 54, 56]. Очевидно, во многих случаях не только «перемещаются», но под вилянием обстоятельств сходят на не (дробные данные о ситуации в мелком бизнесе см. в другом труде этого же автора [49].)т.
Институциональные и социально-экономические условия, сложившиеся в постсоветской России, предопределяют специфику профессиональной структуры малого бизнеса: по данным Госкомстата, более двух третей предпринимателей занимались в 1996 году торговой и посреднической деятельностью, 21% работали в строительстве, 6% ~ в сфере прикладной науки, и только 18% выпускали промышленную продукцию [3]. Основная масса малых предпринимателей устремляется в сферу торговли и услуг, где требуется относительно меньше средств, чтобы открыть и поддерживать дело (это особенно важно ввиду трудностей получения кредита, лишь 9% предпринимателей в конце 1990-х годов могли воспользоваться кредитами в банках и других предприятиях) и где легче найти «поры», в которые не проник олигархический, криминальный или связанный с властными структурами капитал [52, с. 70~71]. Малый бизнес внес существенный вклад в модернизацию розничной торговли и потребительских услуг: в этих сферах экономики она продвинулась в России намного дальше, чем в каких-либо других, и в них положительный контраст по сравнению с советским временем проявляется наиболее ярко. Но в то же время слабое проникновение малого предпринимательства в наиболее «технологичные» сферы ~ промышленное производство, научно-исследовательскую деятельность ~ свидетельствует о незначительной его роли в тех инновационных процессах, которые являются решающим фактором научно-технического прогресса и экономического роста. И в этом отношении российский малый бизнес выглядит весьма отсталым по сравнению с данным сектором экономики в развитых странах, где его роль в инновациях куда значительнее.
Развитие малого бизнеса приводит к появлению относительно обеспеченного материального слоя населения и содействует в этом смысле формированию современного среднего класса. По данным БЭА, душевой доход в семьях мелких предпринимателей в 3,4 раза выше среднего по стране и в 3,9 раза выше среднего душевого дохода в семьях наемных работников. Их сбережения в 3 раза выше среднего уровня, причем 70% предпринимательских семей имеют валютные сбережения, составляющие в среднем на семью 4,6 тыс. долларов, что в 40 раз больше среднего уровня таких сбережений в семьях наемных работников. Малые предприниматели значительно превышают другие массовые слои населения и по объему находящихся в их собственности товаров длительного пользования и по количеству обращений к платным услугам. В 1999 году 14% семей предпринимателей отдыхали за рубежом (среди наемных работников ~ всего 3%) [48, с. 5~72]. По данным эмпирических исследований, предприниматели ~ одна из наиболее молодых и образованных социально-профессиональных групп. Примерно треть их ~ люди моложе 30 лет, другая треть находится в возрасте 31~40 лет; более двух третей имеют высшее образование [48, с. 65]. Располагая, таким образом, весьма высоким энергетическим (в силу возраста) и интеллектуально-культурным потенциалом, они максимально мобилизуют его в своей профессиональной деятельности. Труд предпринимателя, отмечает Радаев, «не только интенсивен, но и продолжителен... Он [предприниматель] часто не имеет регламентированного рабочего дня, отдавая делу по 11~12 часов. Это непрерывный труд с элементами самоэксплуатации при нерегулярных выходных и кратковременных отпусках [48, с. 54]. По подсчетам БЭА, предприниматель в среднем трудится в неделю на 16 часов больше, чем наемный работник [48, с. 69].
Что приносит самому мелкому предпринимателю и обществу столь интенсивное использование того богатого человеческого капитала, обладателем которого является эта социальная группа? Для принадлежащих к ней людей результат ограничивается в основном относительно высоким уровнем жизни и моральным удовлетворением, обусловленным личной автономией и скромным деловым успехом. Напряженный труд не дает большинству из них чувства прочности своего экономического и социального положения, уверенности в завтрашнем дне, веры в перспективы роста собственного дела. Оптимистически настроенный мелкий бизнесмен, подобный нашему московскому респонденту-коммерсанту, ~ скорее исключение, чем правило. По данным Фонда «Общественное мнение», среди предпринимателей «оптимистов» не больше, чем среди остального населения, т.е. малый бизнесмен испытывает устойчивый оптимистический настрой не чаще, чем средний россиянин.
Об ограниченности макроэкономического и макросоциального эффекта деятельности малого бизнеса, его вклада в развитие экономики и в инновационные процессы уже говорилось. В связи с этим весьма показательной является вполне соответствующая ей ограниченность «достижительных» и инновационных горизонтов самих предпринимателей, малое значение в их мотивации и самосознании проблем социального престижа, возможностей влиять на ситуацию в экономике и обществе. «Мало кого, ~ отмечают исследователи БЭА, обобщая данные опросов малых предпринимателей, ~ волнует престиж работы и возможность влиять на людей и события. Не слишком высоко ценится возможность получать новые знания и навыки, важнее оказывается более консервативное соответствие работы уже имеющимся знаниям, профессии» [52, с. 73].
Было бы, однако, неверно считать экономический и интеллектуальный консерватизм некоей органической чертой российских малых предпринимателей. Этому противоречат их молодость, высокий образовательный уровень, а также и подспудная аспирация к инновациям, которая проскальзывает в опросах и интервью. Скорее, как свидетельствуют те же данные, эта аспирация подавляется макроэкономической и социально-политической средой, в которой они действуют. В ходе проведенного нами опроса российских менеджеров и предпринимателей, проходивших в 2000 году стажировку в Западной Европе, собственники и управляющие малых предприятий, особенно промышленных, одной из главных нерешенных проблем своей профессиональной деятельности называли недостаток средств на модернизацию.
Отмеченные демографические (возраст) и культурные (образованность) особенности слоя российских малых предпринимателей позволяют видеть в этом слое один из важнейших человеческих ресурсов модернизации страны, ее выхода на постиндустриальную стадию развития, в основе которой лежит «экономика знаний». Как отмечают исследователи немецкого Федерального института по исследованию стран Восточной Европы и международных проблем, «опыт последних лет свидетельствует о том, что Россия в полной мере способна к быстрому освоению и применению новых технологий». Как полагают немецкие эксперты, в условиях крайней ограниченности финансовых возможностей государства «чрезвычайно важную роль в осуществлении технологических и организационных инноваций играет частная инициатива». В подтверждение этому выводу приводится следующий факт: «в декабре 1998 г. в России насчитывалось около 40 000 небольших инновационных фирм, общее число сотрудников которых составляло 200 000 человек» [45, s. 29, 30].
И отечественные, и зарубежные специалисты признают политику поощрения малого бизнеса одним из наиболее императивных условий выхода России из экономического и социального кризиса. В действительности такая политика не проводится, в лучшем случае, дело ограничивается «декларациями о намерениях». На практике же развитию малого бизнеса, в том числе инновационного, препятствуют как ограничения формально-законодательного характера, так и весь комплекс неформальных отношений, создаваемых правовым беспределом и бесконтрольной властью коррумпированной бюрократии.
Наряду с объективной ситуацией крайне негативное воздействие на судьбы российского малого бизнеса оказывает его низкая способность к ассоциированию и самоорганизации. По данным Радаева, лишь 15~20% предпринимателей входит в какие-либо деловые предприятия и ассоциации [48, с. 57]. Для сравнения можно отметить, что в восточноевропейских странах переходной экономики, например, в Венгрии, уровень их ассоциирования достигает 80%. Существующие в России предпринимательские организации оцениваются большинством самих предпринимателей как неэффективные, не защищающие реально их интересы. Довольно распространенное мнение выразил в беседе с автором известный российский промышленник, глава концерна «Панинтер» А.С. Паникин, назвав их «номенклатурными». В отечественном исследовании, обстоятельно анализирующем деятельность наиболее известной предпринимательской организации ~ Торгово-промышленной палаты России, утверждается, что «в ней достаточно широко представлены не только крупные, но и мелкие и средние компании и фирмы», что «заметное место в деятельности Палаты занимают усилия, направленные на поддержку и развитие малого бизнеса». Однако в некотором противоречии с этими тезисами далее сообщается, что членами Палаты являются лишь 0,5% организаций, зарегистрированных в России, что «недостаточная «массовая база» Палаты объективно вынуждает ее делать особый упор на выполнение платных услуг и коммерческой деятельности», говорится также о слабости ее политического влияния [44, с. 123, 127~129, 144].
Дело, однако, не только в слабости и непредставительности существующих организаций бизнеса, но и в том, что сами малые бизнесмены психологически не очень расположены к объединению во имя защиты общих интересов. На вопрос, вступили бы они в какую-либо соответствующую их интересам организацию, если бы им было сделано такое предложение, они, как правило, дают отрицательный ответ, ссылаясь обычно на перегруженность работой и отсутствие времени. Этот асоциальный синдром, отсутствие культуры совместного действия ~ отнюдь не особенность предпринимательского слоя, в силу известных исторических факторов они присущи основному массиву российского социума [19]. Между тем атомизация малого бизнеса не только мешает ему отстаивать перед лицом власти свое право на существование и развитие, но и лишает его важнейшего ресурса эффективной и инновационной экономической деятельности. Как свидетельствует мировой опыт, кооперирование малых предприятий дает им громадные преимущества на рынке ~ ускоряет обмен информацией, убыстряющей инновационные процессы, содействует экономии на трансакционных издержках, повышает квалификацию рабочей силы. Об этом ярко свидетельствует, например, опыт так называемых «индустриальных округов» в Италии ~ здесь кооперированное мелкое производство в его наиболее технически передовых формах получило особо широкое развитие, обеспечило альтернативный путь индустриализации и дает 40% экспортируемой продукции страны [35].
Подлинный расцвет российского малого предпринимательства, превращение его в весомый фактор инновационного процесса предполагает, таким образом, во-первых, радикальную перестройку приоритетов государственной политики и всей институциональной среды его функционирования; во-вторых, ~ социально-психологическую и культурную трансформацию самого малого бизнеса, обретение им качеств субъекта гражданского общества.
МЕНЕДЖЕРЫ И СПЕЦИАЛИСТЫ-«РЫНОЧНИКИ»
Гетерогенность среднего класса ~ социально-профессиональная и статусная, культурная и социально-психологическая ~ констатируется почти во всех посвященных ему исследованиях. Вместе с тем эта его черта, очевидно, проявляется в разной степени в различных образующих его группах. Как отмечается, например, в исследовании БЭА, малые предприниматели «в отношении других социально-профессиональных групп ~ самозанятых, наемных работников, неработающих ~ ...выступают как относительно однородная общность» [52, с. 77]. Вряд ли возможно таким образом охарактеризовать наемных работников из средних слоев. На первый взгляд, их объединяет только формальный признак ~ получение дохода в виде зарплаты, да, пожалуй, еще верхняя и нижняя границы этого дохода, отделяющие их от «богатых» и «бедных». Во всех остальных отношениях, включая, кстати, и величины дохода, заключенные в этих весьма широких границах, различные профессиональные и статусные подгруппы наемных работников, относящихся к среднему классу, являются весьма пестрым конгломератом.
Как будет видно из дальнейшего, несколько мужчин и женщин, представляющих эту группу в нашей выборке, как бы подтверждают своим примером тезис о крайней гетерогенности «среднего класса» и тем самым условность самого этого понятия. Анализируя интервью с ними, мы попытаемся ответить на вопрос: можно ли за этим многообразием ситуаций и ментальностей наемных работников, включенных своей профессиональной деятельностью в рыночные структуры и отношения, обнаружить более глубокую общность позиций, мотивов, ориентаций?
Один из наших респондентов ~ 52-летний низший менеджер, работает в одном из самых мощных и влиятельных рыночных институтов, играющем в то же время ведущую роль в государственном регулировании рынка ~ Центральном банке России. Он, однако, не финансист, а инженер-системотехник, руководит коллективом из девяти человек, специализирующемся на информационном обеспечении. У него «порядка семисот» пользователей-клиентов, и одной из основных своих задач респондент считает обеспечение конкурентоспособности руководимого им подразделения. Уже отсюда видно, что этот низший менеджер является действующим лицом рынка информационных услуг и относится, следовательно, к одной из новых, по принятому нами критерию, групп среднего класса.
Доход респондента в расчете на члена семьи невелик ~ 1 000~1 500 руб. в месяц, но сам он считает эту величину явлением временным, которое объясняется, во-первых, большим числом иждивенцев (в семье жена-пенсионерка, сын и невестка ~ студенты, внук), во-вторых, падением доходов вчетверо после кризиса 17 августа, но это положение, полагает респондент, «исправится». «Ничего уж такого катастрофического, с моей точки зрения, не случилось, ~ говорит он о кризисе. ~ Так что в этом плане спокойно, без паники и негодования». По оценке инженера, если до кризиса он и его семья жили лучше, чем раньше, то теперь «вернулись к тому уровню, который был до 91 года, когда жили от зарплаты до зарплаты, причем все работали». И в будущем он не ожидает какого-то значительного роста своего жизненного уровня: «...в этом процессе расслоения, который происходит, я не в верхушке, конечно. Я где-то в середине (он относит себя к пятой-шестой ступени социальной лестницы. ~ Г.Д.), и мои доходы всегда будут маловаты даже в отношении к необходимым расходам».
Такую ситуацию и перспективы респондент, похоже, принимает спокойно, без жалоб и возмущения, видя в ней скорее признак стабильности своего «среднего» положения, чем нечто ненормальное и несправедливое. «Поскольку и от рождения, и по происхождению я так и был где-то посредине, то не упал и не поднялся». Более того, этот не удовлетворительный, но средний, нормальный при существующих в стране условиях уровень жизни респондент связывает со своей личностной идентичностью: среднее положение в социально-имущественной иерархии, сообщает он, соответствует его «так сказать, психологическому складу..., мировоззрению... Я не карьерист в том смысле, что к высокой должности не стремлюсь. В элите не хотел бы быть, это точно, в нищих тоже».
Далее он объясняет, почему не хочет быть в элите: это противоречило бы весьма ценимой им внутренней личной свободе. «Я считаю, что их (представителей элитных слоев. ~ Г.Д.) жизнь плоха тем, что они перестают принадлежать самим себе, слишком уже все на виду, и все интересы, стремления должны быть подчинены чему-нибудь уже не личному». Кроме того, респондент не ощущает в себе лидерских качеств: «...лидером не стану и не хочу. Мне интереснее, может быть, наблюдать людей, чем заставлять их быть кем-нибудь».
Итак, перед нами система мотивов личности, в которой отсутствуют «классические» достижительные ценности ~ богатство и власть ~ и которая тем самым оказывается очевидным психологическим коррелятом «срединной» социально-иерархической ситуации. Что же лежит в основе этой системы? В случае нашего респондента не «срединность» как таковая, отождествляемая со стабильностью, спокойствием, самовоспроизводством наличной ситуации, свободой от тревог и рисков. Банковскому техническому менеджеру, по всей видимости, не слишком близки такие ценности. Говоря об одной из своих сотрудниц, он осуждает ее за то, что она «лишена какой-то инициативы здоровой, какого-то интереса к новому, и движению вперед». Никак не проявляется в интервью и мотив элементарного выживания, столь типичный для множества россиян с небольшим доходом. Хотя респондент и не удовлетворен своей зарплатой, она, несомненно, не является для него главной жизненной проблемой.
На вопрос интервьюера об его интересах респондент отвечает однозначно: «...смею отнести свою работу и те цели, которые ставлю, к самому главному, насущному интересу». А эти цели заключены в содержании самой работы (а не в ее статусных или материальных результатах). По его признанию, в работе ему доставляет удовлетворение сам ее процесс («я с удовольствием каждый раз иду на работу и жду, когда это можно будет сделать»), решение трудовых задач, социальная значимость результатов. «Я точно знаю, что дело полезное, нужное, мы его хорошо делаем». Достижительная мотивация у респондента в действительности очень сильна, но достижение, успех осмысливаются вне связи с вознаграждением, которое его символизирует, а как реализованная новация, творческое решение профессиональной задачи. Собственная профессиональная деятельность представляется респонденту движением к некоей отдаленной цели, которая задает направление движения, по-видимому, психологически для него более значимого, чем сама цель. Ибо доминирующий мотив этой деятельности ~ творчество, а функция цели ~ «обслуживать» необходимыми стимулами творческий процесс, придавать ему перманентный характер.
«Сказать, что я совсем уже достиг того, к чему стремился, нельзя, ~ рассказывает инженер. ~ Хотя бы потому, что, как говорят, цель всякого процесса лежит вне этого процесса. Когда цель достигнута, процесс кончается. Скажем, цель нашей жизни где-то за ее пределами... Что касается успешности, да, в целом успешно, потому что мы подняли такой пласт работ, которыми никто не занимался, и мы успешно это сделали...»
Подобное отношение к работе как к самоценности, не имеющей иного личностного смысла кроме ее творческого содержания и «нужности» для общества, респондент увязывает с собственной социальной идентичностью. Главное в ней ~ ценность «интеллигентности». Интеллигентность, говорит он, ссылаясь на академика Д.С. Лихачева, «это то, что нельзя имитировать, то, чему нельзя научиться. То, что [человеку] присуще. Я считаю, что мне это по рождению, по образованию, по происхождению где-то близко» (отец респондента ~ известный экономист-математик). Относя себя к технической интеллигенции, он полагает, что техническая специальность привила ему прагматизм, который отнюдь не означает для него пренебрежения «духовными сторонами жизни». Прагматик ~ «не сухарь, который все это отвергает, а человек, который профессионально относится к тем предметам, которыми он занимается, не сбиваясь в политиканство, в романтику какую-то... просто занимается своим делом профессионально, в меру знания и специальности».
Сфера профессиональной деятельности респондента ~ новейшие информационные технологии ~ находится как бы в «нервном центре» современной рыночной экономики. Тем примечательнее, что собственно «рыночные» ценности ~ деньги, прибыль ~ фактически не представлены в его личностной мотивации. Из этих ценностей для него важна лишь конкурентоспособность его команды, поскольку она ~ необходимое условие получения заказов и тем самым творческого трудового процесса. Менеджер положительно относится к рынку и с этой точки зрения оценивает перемены, произошедшие в стране за постсоветский период. Но рынок ~ для него не самоценность, а чисто функциональная необходимость: по его словам, «без хотя бы частично рыночной экономики человеку нормальному не может быть достаточных стимулов к труду... Обязательно у человека должен быть интерес и возможность творить на производстве, а не только дисциплина, не только план. Без рынка нельзя, я считаю. С другой стороны, перегибы насчет рынка, ...давайте все пустим, дадим на откуп деньгам, деньги пусть правят, ~ это тоже неправильно».
Таким образом, рынок нужен респонденту лишь как средство реализации высшей ценности ~ творческого труда. В остальном же в его идеологических взглядах сохраняются даже, как это ни странно звучит в России конца ХХ века, остатки веры в коммунизм («в душе я считаю, что коммунистическое дело так или иначе человечеством овладеет»). При этом он не считает КПРФ носителем коммунистической идеи, и в российском политическом спектре «правые», особенно «Яблоко», ему ближе, чем «левые»...
«Коммунизм» инженера-менеджера ~ это, скорее всего, некий реликт русского интеллигентского антикапиталистического идеализма, который перешел к нему «по наследству» вместе с другими традиционными интеллигентскими ценностями: этикой творческого труда во имя общественных интересов. Однако в целом его система ценностей отнюдь не выглядит архаичной. Скорее, он воплощает ту тенденцию перехода от «старого» к «новому», интеллигентскому сознанию, ориентированному на профессиональную инновационную деятельность, который некоторые представители отечественной мысли считают велением времени. Ибо одно из центральных мест в этой системе явно занимает ценность профессионализма. «Самое главное, ~ держать свой курс, видеть цель и к ней стремиться. Т.е. это, так назовем, целеустремленность. Плюс профессионализм, энергия и непренебрежение моральными принципами. Это основной стержень, путь воина». И главным недостатком российской экономической и политической системы он считает «отсутствие профессионализма у тех, кто занимается этими делами».
Этот инженер-менеджер похож по своей ментальности на тех ученых, о которых шла речь в предыдущей главе. Но, в отличие от них, он связан профессионально с чисто рыночной сферой деятельности и поэтому перед ним не возникает столь трудных для них проблем соотнесения приоритетов творчества и заработка. Но интересен его случай тем, что он являет собой пример творчески и инновационно ориентированного профессионала, целиком интегрированного практически в рыночную экономику, обслуживающего ее нужды, однако психологически направляемого в этой своей деятельности отнюдь не рыночными мотивами. Это ~ носитель русских интеллигентских традиций, обновленных современным профессионализмом и прагматизмом. Данный пример важен для понимания особенностей формирования российского среднего класса в качестве социального субъекта инновационного процесса.
Во многом сходный тип ценностной и мотивационной ориентации мы находим у респондентки, по своей социально-профессиональной принадлежности весьма далекой от научно-технического творчества. Это 34-летняя женщина-администратор продуктового магазина в Санкт-Петербурге. После окончания технического вуза работала по специальности, но эта работа ей «совершено не нравилась», так как была «абсолютно неинтересной... я там отсидела буквально год и сбежала оттуда, как только смогла». То же и по тем же причинам произошло и со следующей ее наемной работой ~ продавщицы в универмаге: «...я там месяц отсидела, ~ рассказывает респондентка, ~ и сказала, что это не для меня... я такой человек, что мне надо обязательно двигаться, бегать, что-то делать, обязательно общаться, а сидение меня просто выводило из себя... Там надо было сидеть, народу никого, и я посидела и почувствовала через месяц, что закончилась абсолютно».
Зато нынешняя ее работа в магазине «очень интересная, творческая... Приходишь в девять часов и начинаешь бегать, начинаешь читать, начинаешь писать, начинаешь выдавать, начинаешь принимать и в десять часов оттуда уходишь... Я полностью отдаюсь, за неделю вымучиваюсь, из меня можно сок выжимать... Я к этому очень хорошо отношусь, это по мне».
Чем же интересна работа этого низшего менеджера, руководящего бригадой продавщиц из четырнадцати человек, в чем ее творческий характер? Сама респондентка говорит, что ее больше всего удовлетворяет «четкая работа... Я могу организовать так, что этот коллектив работает как часы». Очевидно, у нее призвание к организационной работе, что означает для нее прежде всего непосредственное целенаправленное общение с людьми («с людьми пообщаться ~ это мое»). В магазине респондентка занимается, в частности, подбором кадров и считает, что у нее есть «что-то от психолога: это необходимо в моей работе». А урок, который она вынесла из четырехлетнего опыта менеджерской работы, состоит в том, что «людей надо уважать».
С менеджером из центрального банка эту коммерческую служащую психологически объединяет сочетание интегрированности в рыночные отношения с отсутствием восприятия денег как высшей ценности и символа социального достоинства. С одной стороны, она хотела бы открыть собственное дело и жалеет, что у нее нет необходимого для этого стартового капитала. С другой стороны, она, в общем, удовлетворена своим весьма скромным доходом ~ несколько более 1 000 руб. в месяц на члена семьи, состоящей из пенсионеров-родителей и 12-летней дочери-инвалида (респондентка недавно развелась, и старший, 14-летний сын остался с бывшим мужем). И хотя она рассказывает, что после кризиса августа 1998 года они вынуждены экономить на питании («сидят на овощах и рыбе»), считает свою иерархическую позицию «чуть повыше средней». В значительной мере потому, что «группой соотнесения» для нее служат покупатели ее магазина ~ жители Васильевского острова, среди которых преобладают старики-пенсионеры («я когда смотрю, как они приходят к нам в магазин...это тихий ужас»). И подобно инженеру-менеджеру из Центрального банка она считает, что добилась успеха в жизни и измеряет этот успех не деньгами и социальным статусом, а реализацией «внутренней силы», потенциала личности. «Я уверена в себе, уверена в своих силах, ~ говорит респондентка, ~ ...Мне было очень тяжело, но я вытянула».
Высокий уровень жизненной активности, деятельная натура, сила личности ~ таковы, очевидно, типологические психологические черты представителей нового российского среднего класса. Их практика в отношении социально-экономической постсоветской действительности не сводится к простой адаптации, но сочетает ее со стремлением к самореализации и самостоятельному построению собственной судьбы. В этом убеждают как рассмотренные выше, так и разбираемые ниже индивидуальные примеры. Причем, когда речь идет о женщинах из творческой, активной части среднего класса, эта сила личности проявляется нередко и в сфере интимно-семейных отношений ~ в трудной ломке традиционно зависимых женских семейных ролей. Петербургская торговая служащая оставила мужа, «хотя, ~ как она говорит, ~ я очень люблю этого человека до сих пор», и оставила потому, что «четко уяснила, что нельзя о себя давать вытирать ноги, ...что как бы это было ни тяжело, надо расстаться, иначе я потеряю свое лицо, ...буду никто». Напомню, что совершенно аналогичный мотив развода мы встретили у женщины-офтальмолога, о которой шла речь в предшествующей главе.
Самореализация, выступающая в качестве ведущего мотива личности, не обязательно нуждается в таких символах успеха, как большие деньги или высокий социальный статус. Она стимулируется «извне» рыночными отношениями и осуществляется именно в рыночной среде, требующей от человека максимальной отдачи его сил и способностей (в отличие от традиционных советских бюрократических структур). Однако нашим респондентам чисто профессиональные, качественные результаты их труда не менее, а то и более важны, чем результаты коммерческие, количественные. Этой структуре мотивации оптимально соответствует апология «середины» («крепким середнячком» считает себя администратор петербургского магазина), отражающая вместе с тем хабитус людей, которые одной и той же жизненной стратегией решают и задачи адаптации ~ бегства от бедности, и проблему личностной самореализации. К таким людям принадлежит и коммерческий петербургский менеджер, пришедшая на рынок труда в розничную торговлю в сущности с нулевым стартовым «капиталом» ~ без опыта менеджмента и без профессиональных знаний («когда я пришла туда устраиваться, мне сказали: «Ты знаешь то, ты знаешь это?», я сказала: «Нет, но я буду работать»).
Впрочем, менталитет и поведение людей этого типа неверно было бы объяснять только их индивидуальными психологическими особенностями. И за тем, и за другим нередко стоит определенная культурно-этическая традиция. Как и московский инженер-менеджер, петербургская служащая ~ поклонница академика Лихачева, любит читать; любимые авторы ~ Лесков, Ремарк, Булгаков, по совету дочери взялась за Данте. Обожает «бродить по старым паркам, ...вдыхать это дыхание старины». За всем этим угадывается некий уровень интеллигентности, который, как мы уже неоднократно видели, накладывает специфический отпечаток на облик иных акторов российского рынка.
Разумеется, далеко не всех. Познакомимся с другим низшим менеджером ~ 27-летним работником предприятия часовой техники в Нижнем Новгороде. У него высшее образование (Политехнический университет) и средний заработок ~ 300~400 долларов в месяц, что в 3-4 раза больше, чем у менеджера из Санкт-Петербурга. Но, в отличие от нее и от менеджера-москвича, получаемого дохода ему «катастрофически не хватает». Заработок, который бы его устроил, ~ 1 000 долларов в месяц. Соответственно и свой иерархический статус он оценивает ниже, чем они, ~ всего четвертая ступенька социальной лестницы.
За этим восприятием собственного положения стоит иная система мотивов и аспираций, ориентированная, главным образом, на материально-потребительские цели. Ближайшая из них ~ собственная квартира («надоело мотаться по квартирам, снимать, надо что-то свое»). Кроме того, он почти каждый год меняет машину: раньше у него была «BMW», сейчас «Таврия», намерен снова приобрести «BMW». В целом же «достижительная мотивация» респондента ориентирована на служебную карьеру и рост благосостояния («хочу добиться более высокой должности, чем я сейчас занимаю. И, конечно, повысить свое финансовое положение»). Мотивация эта не имеет какого-либо определенного «потолка». «...хочется многого, ~ говорит он, ~ а то. что получится, увидим. И от этого уже будем дальше отталкиваться». Такую прагматическую стратегию поэтапного роста, не ограниченного заранее заданным пределом, но планируемого конкретно в соответствии с реальными возможностями каждого витка жизненного цикла, респондент по-своему концептуализирует, приписывая ее своему социальному слою. Это «люди, ~ говорит он, ~ которые задумываются на будущий день, но большую часть жизни живут одним днем. Как бы планы на будущее есть, но реально только на ближайший год». Можно сказать, что эта стратегия выражает специфический хабитус, характерный для определенной части среднего класса и взаимосвязанный с достижительной мотивацией в ее простейшем «классическом» варианте (карьера, деньги). Потребности здесь, как и предполагается в теории Бурдье, подгоняются к возможностям, но сами возможности воспринимаются как динамический компонент жизненных условий, обладающий потенцией к расширению; поэтому операция «подгонки» носит ситуативный характер и как таковая ощущается субъектом.
Несомненно, такой тип хабитуса напрямую обусловлен возрастным фактором: в полном виде он реализуется лишь на ранних ступенях жизненного цикла; ощущение неограниченности возможностей слабеет, а затем и вовсе исчезает по мере перехода человека из младшей в среднюю и старшую возрастные группы (мы это видели на примере московского инженера-менеджера). Однако нижегородский часовщик не просто молод. Будучи всего на семь лет моложе петербургской торговой служащей, он принадлежит к совершенно иному поколению ~ к «детям перестройки» (окончить школу и поступить в вуз он должен был где-то в 1989-м или 1990 году). И является в определенном смысле относительно «чистым продуктом» эпохи перехода к рынку.
Это проявляется прежде всего в его жизненной философии, типичной для значительной части младшего поколения россиян 1990-х годов; в другой работе я назвал ее ~ «нормативный (т.е. вполне осознанный, вербализуемый и отчетливо акцентируемый) индивидуализм» [17, с. 52]. На вопрос интервьюера: «Как Вы идентифицируете свои идейно-политические взгляды?» ~ после очень долгой паузы респондент отвечает кратко и выразительно: «Сам за себя». Эта позиция отнюдь не означает отрицания социальных этических норм: так респондент придает первостепенное значение порядочности в отношениях между людьми. Но смысл и цель собственной жизни он черпает не в этих отношениях, а в индивидуальном самоутверждении. Поэтому, несмотря на крайне отрицательное отношение к российской власти («о народе они не думают»), он, в общем, положительно оценивает результаты преобразований постсоветского периода. В советское время, объясняет он, «весь твой рост зависел от тебя процентов на двадцать... А сейчас ~ все зависит от тебя... Каждый может себя реализовать».
«Реализовать себя» лично для респондента означает пробиться, добиться материального и карьерного успеха. В отличие от большинства наших собеседников, он не относит работу к числу важных для себя ценностей, единственной такой ценностью для него является семья («семья ~ это для меня все»). Это не значит, что он не испытывает интереса к своей работе: нижегородский часовщик читает профессиональные журналы, старается получить информацию по специальности, говорит, что на работе «выкладывается» и что работать ему интересно. Интереснее всего ~ ездить в командировки, 70% своего удовлетворения работой респондент относит к удовольствию, получаемому от поездок («если я две недели дома посидел, уже депрессия, упадок сил начинается»). Интереса же к самому содержанию работы, творческой мотивации в его высказываниях не звучит, если такой интерес у него и есть, он никак не артикулируется. Скорее всего, здесь сказывается инструментальная роль работы в системе мотивов и аспираций респондента: профессиональная деятельность может быть интересной, удовлетворять творческие и познавательные потребности, доставлять радость от служебных командировок, но главный ее смысл для него в том, что она является средством заработка и содержания семьи, материального и социального роста.
Подобный тип мотивации идеально соответствует меритократическим принципам рыночной экономики, тем требованиям, которые она предъявляет своим «массовым», рядовым агентам, во всяком случае, на индустриальной стадии своего развития. Человек должен хорошо делать свое дело, «выкладываться» на работе и тогда он вправе рассчитывать на хороший заработок и продвижение по службе. Его судьба в идеале зависит исключительно от количества и качества его труда, т.е. от него самого, а не от неконтролируемых им сил и отношений. Человек, который, как нижегородский часовщик, полностью интериоризировал эти принципы, четко знает, что он должен делать, чтобы удовлетворить свои, тоже достаточно ясные для него, потребности, и свободен поэтому от внутренних противоречий и сомнений. На вопрос о том, испытывает ли он «внутренние конфликты», когда в нем «самом борются какие-то мотивы, установки», респондент отвечает: «Да нет, такого не бывает». Это уже не советский человек с его двоемыслием, колебаниями между формальными и неформальными «правилами игры».
Последовательно прагматический индивидуализм нижегородского менеджера проецируется и на его политические взгляды. В принципе он за парламентскую демократию, так как дорожит свободой («все-таки царя-то нам хватит») и понимает необходимость «связи власти и жителя страны», но решающее значение придает личностям политиков: у власти должны находиться сильные личности, люди, подобные успешным бизнесменам: энергичные, деловые, смелые, способные добиваться успеха. Соответствующих этому идеалу кандидатов на власть он находит в совершенно разных секторах российского политического спектра: среди них Лужков, нижегородский полукриминальный бизнесмен и несостоявшийся мэр Климентьев, Чубайс, Брынцалов...
На примере ряда респондентов мы имели возможность наблюдать связь между типом мотивации представителей нового среднего класса и их культурным бэкграундом. Прослеживается такая связь и у нижегородского менеджера: однозначность, простота и ясность его жизненной стратегии и внутреннего мира коррелируется с уровнем культурных запросов. Концерты и музеи он не посещает, «классическую литературу давно уже в руки не брал», читает детективы, «дорожную литературу», которая «легко читается, легко воспринимается». Правда, любит Булгакова... Из последних кинофильмов больше всего понравился «Брат».
В общем, перед нами молодой представитель нового среднего класса, воплощающий ту «модернизацию человека», которая начала происходить под влиянием возникновения рыночной экономики. Это по ряду признаков вполне интернациональный и, вероятно, наиболее массовидный «стандартный» тип рядового или «среднего» человека, начинающего свой жизненный путь в ее структурах и интериоризировавшего ее «правила игры». В интервью с нижегородцем трудно выявить какие-либо национальные особенности психологии респондента или наследие прошлого, советского опыта ~ разве что решительное отторжение этого опыта. Даже если такого рода люди не вносят каких-либо индивидуальных инноваций в производственную и социальную жизнь, само появление личностей данного типа и потенциальное увеличение их числа существенно обновляет ментальность и социально-экономическое поведение российского социума. Ибо вносит в них ценности личной свободы и личной ответственности индивида, подавлявшиеся в эпоху социализма.
Несомненная локализация этого феномена в младшем поколении россиян не означает, что мы имеем дело с некоей универсальной моделью, по которой формируется младшая часть нового среднего класса. В наших интервью мы встречались и с иными ~ по ряду параметров ~ индивидуальными вариантами.
Одна из наших респонденток 1997 года ~ 28-летняя менеджер оптового отдела крупной московской фирмы по торговле мороженными продуктами. От нижегородского менеджера ее отличает более активная, «поисковая» позиция в профессиональной жизни («у меня как бы внутренний поиск идет разных-разных деятельностей»). Закончила Институт культуры по специальности «автоматизация библиотечных процессов», но в этой области почти не работала. Была агентом по торговле и аренде недвижимости, маклером. Довольна своей теперешней работой, которая, по ее словам, «достаточно разнообразна, достаточно интересна, ...меня устраивает оплата. Все устраивает». Респондентка относит себя к шестой-седьмой ступеньке статусной лестницы (по двенадцатибальной шкале), исходя прежде всего из уровня зарплаты, но также и из психологического ощущения надежности собственного социального положения («общего состояния»). У нее нет сильной установки на продвижение по этой лестнице («я не могу сказать, что у меня есть какие-то принципиально карьеристские взгляды, мне хотелось бы просто иметь работу, которая мне будет нравиться, ~ это не связано с какой-то высокой лестницей, с властью»). В общем, ее устраивает любая интересная и хорошо оплачиваемая работа, которая в идеале должна еще оставлять время для семьи и досуга. Вместе с тем будущее для нее, по ее самоощущению, открыто: она хотела бы повысить свою квалификацию (изучить английский, компьютер), возможно, сменить профессию, не исключает и карьеры (то ли в данной фирме, то ли в другой), но карьера для нее не самоцель, а один из возможных результатов «внутреннего поиска» разнообразной и интересной профессиональной жизни.
Как и нижегородский менеджер, респондентка отторгает советское прошлое. «Меня, ~ говорит она, ~ просто не было в советские времена...», когда «люди не работали, просиживали штаны и получали за это деньги». Ее жизненная стратегия индивидуалистична, ориентирована на личную инициативу и ответственность за собственную судьбу. Как она говорит, «я не очень общественный человек, я больше верю в себя, верю в индивидуальность, и для меня это нормально... Можно рассчитывать только на себя». При шкалировании своих ценностей на первое место она поставила «самореализацию». Нормативный индивидуализм здесь присутствует в явной форме, но на уровне поведенческой установки воплощается в стремлении к свободе выражения собственной индивидуальности, причем выражения ее в определенной (философ сказал бы ~ «предметной») деятельности, и свободному созиданию собственной жизни. Это уже индивидуализм не только нормативный, но и креативный, созидательный.
На просьбу назвать свои интересы респондентка отвечает: «творчество, работа, любовь к жизни, свобода, талант». А вот ее автопортрет: «...человек, который движется по жизни, развивается, стремится к совершенству, любит своего ребенка... Я иногда сильная, иногда слабая, люблю жизнь, стремлюсь найти свое место в мире. Хочу интересной работы, связанной с людьми, но, кроме того, привлекают рисование, лепка, спорт».
Жизненная практика респондентки вполне соответствует ее установке на самореализацию. В период проведения интервью она изучала психотерапию и одновременно занималась прикладным искусством, не исключала, что в будущем выберет одну из этих сфер деятельности в качестве своей основной профессии. Несмотря на отсутствие карьеристских установок, у нее, несомненно, высокий уровень достижительных аспираций: это видно, в частности, из того, что она оценивает свой социальный статус 50 баллами из 100 возможных. Деньги для нее важны, но в их инструментальной функции ~ как условие свободной самореализации, поэтому для нее существенна проблема, как избежать превращения средства в цель. Функции работы и денег в ее системе мотивации прямо противоположны тем, которые они выполняют в мотивационной стратегии нижегородского менеджера.
Еще один, тоже молодой нижегородский менеджер ~ 28-летний финансовый директор финансово-промышленного концерна. Раньше был рабочим, без отрыва от производства получил среднее техническое образование, в момент интервью учился на четвертом курсе технического вуза. Работой удовлетворен («я на работу иду с удовольствием. Несмотря на то, что я очень мало отдыхаю, я считаю, что это мое»). Уровень своего дохода не называет, сообщает лишь, что его заработка хватает, чтобы снимать квартиру, кормить и одевать себя, жену и сына, приобрести и содержать машину «Вольво». Полученным доходом не удовлетворен и рассчитывает его увеличить. Величину желательного дохода ставит в зависимость от необходимых ему благ: больше денег ему нужно, чтобы купить квартиру, два раза в год ездить с семьей на отдых, дать хорошее образование сыну.
На вопрос интервьюера: «О чем бы Вы хотели знать больше?» ~ респондент овтечает: «О себе» И, похоже, на пути к самопознанию он добился немалых успехов. Его жизненная мораль, философия, ценности и установки тщательно продуманы, на все вопросы он дает четкие, развернутые ответы. Этот вчерашний рабочий и финансист-самоучка («я с самого юношества пытался заниматься сам... покупаю себе книги по менеджменту») обладает развитым интеллектом, высоким культурным уровнем. Много читает ~ от Пушкина и Лермонтова до Франсуазы Саган, любит Омара Хайяма и Мандельштама, выписывает «Коммерсант» и «Экспресс», телевизор смотрит редко и только новостные программы и фильмы «по рекомендации». «Я считаю, что все, что я делаю, должно что-то принести либо уму, либо сердцу, а если ни тому, ни другому, тогда зачем это нужно». Один-два раза в год посещает концерты классической музыки.
Как же интеллигентность этого молодого, но весьма преуспевающего, занимающего высокий пост в крупной по региональным масштабам компании менеджера соотносится с его трудовой мотивацией и профессиональной этикой? В том, что касается его отношения к собственной работе, соответствие между тем и другим совершенно очевидно. Самое главное для него ~ «интересное содержание труда», которое приносит ему, по его оценке, 80% удовлетворения работой и «немного даже чуть-чуть счастья». «Материальная сторона, ~ добавляет он, ~ также важна, потому что я человек семейный. Так что 20% ~ боюсь, что это деньги».
Нижегородский менеджер, несомненно, обладает сильной достижительной мотивацией, но он четко отделяет внешние символы успеха от его отчетливо осознаваемого экзистенционального смысла. По его словам, он не видит какого-либо потолка для своей карьеры, а на вопрос интервьюера, чего он хотел бы достичь в жизни, отвечает: «Я хочу быть счастливым». Счастье ~ это прежде всего интересная работа, «место в жизни», по определению менеджера, «где я могу себя реализовать», но и еще многое другое. «Я хочу быть счастливым, ~ говорит он, ~ поэтому я хочу испытать как можно больше... Я хотел бы испытать все. Я начал заниматься байдарочным спортом, ...хочу заняться горнолыжным спортом... Я хочу повидать мир, пока после кризиса я не имею этой возможности... Я очень люблю искусство и не хотел бы дать этому чувству атрофироваться: стараюсь посещать хорошие спектакли, хочу заняться музыкой, музыку люблю, сам немного пишу стихи, немного рисую, всего понемногу».
В свете сказанного становится яснее, почему молодой менеджер придает столь большое значение содержанию своего труда, ценит его намного выше приносимого этим трудом дохода. Перед нами творческая натура, личность с интенсивными креативными и познавательными потребностями, обусловливающими высокую жизненную активность. В системе мотивов такой личности хабитус играет относительно второстепенную роль: границы реальных возможностей не столько определяют «потолок» аспираций, сколько вынуждают делать выбор между ними. «Чувство сохранения, ~ говорит респондент, ~ заставляет в выборе себя ограничивать». И та же творческая целеустремленность проявляется в основной сфере деятельности.
«Мне нравится создавать что-то, ~ рассказывает респондент о своей работе. ~ А на данном этапе поскольку мы (концерн, где он работает. ~ Г.Д.) как раз начинаем внедряться в производство, мы начинаем создавать реальные ценности... До этого я занимался ценными бумагами, т.е. мы продавали то, что сами не создавали. Это было хорошо, это были большие деньги, ну, относительно большие, но все же это было не совсем то».
Приток капитала, созданного в финансовой сфере, в сферу материального производства, как известно, ~ одна из наиболее острых и насущных проблем развития российской экономики. В решении ее, очевидно, могут сыграть роль не только чисто экономические или политические факторы, но и созидательная мотивация тех агентов рынка, которые этим капиталом распоряжаются, так что в людях, подобных нашему менеджеру, можно видеть один из важнейших ресурсов крупных и назревших структурных инноваций.
Нельзя забывать в то же время, что эти люди являются агентами рынка и в этом качестве они не могут выполнять свои социальные функции и роли, руководствуясь только креативными мотивами и ценностями. Они не могут быть только творческими людьми или интеллигентами, они должны еще интериоризировать «правила игры» рыночных отношений. Если такой человек, подобно нижегородскому менеджеру, приобщен к гуманитарной культуре («я, ~ говорит он о себе, ~ считаю себя гуманитарием») и склонен к самопознанию и нравственно-мировоззренческой рефлексии, перед ним возникает проблема стыковки этих достаточно жестоких правил с гуманистическими ценностями такой культуры. В иерархии осознанных ценностей нашего респондента, в его «сверх-я», высшее место занимает нравственный императив, что вполне соответствует уровню и типу его культурного бэкграунда: самой важной ценностью для себя он считает «жить в ладу с собственным сердцем». Естественно, что такой идеал нелегко осуществить в практике бизнеса. Респондент признает, что в профессиональной деятельности ему приходится испытывать внутренние конфликты различных ценностей, мотивов предпочтений и преодолевать эти конфликты ему тяжело: «...я предпочитаю сначала «переспать» с этой мыслью, а потом, если нужно преодолевать, то это нужно сделать. С наименьшими потерями для себя и для людей, которые тебя окружают».
Это «преодоление» он осуществляет на основании довольно четко продуманного морального «кодекса». В нем сфера деловых отношений жестко отделена от всех других отношений между людьми. Единственная моральная ценность, которую респондент считает несомненной и абсолютной ~ это любовь. Но из дальнейшего выясняется, что реально эта ценность управляет его поведением лишь в сфере отношений с близкими людьми, с родными. Со всеми остальными, с «обобщенным другим» респондент готов строить отношения на основе взаимного уважения и доверия («...в идеале, ~ говорит он, ~ надо научиться уважать себя и уважать других»). Но доверие и даже дружба кончаются там, где начинаются деловые интересы: «...я испытываю доверие к тем людям, с кем не пересекаются мои интересы ...друг до тех пор хорош, пока ты не пересекаешься в деньгах». В деловой же сфере респондент исповедует моральный релятивизм. «Честность, ~ говорит он, ~ понятие относительное, доброта ~ настолько же относительное понятие, как и честность... Я придерживаюсь философии того, что не бывает абсолютно черного или абсолютно белого: если кому-то в данный момент хорошо, то кому-то плохо».
Эта философия предполагает отделение человека-личности, «я» от человека ~ функциональной единицы рынка, актора, выполняющего роль бизнесмена, менеджера. «Тут нужно разделять себя и работу. То, что ты позволишь себе на работе, ты не позволишь себе на улице». И респондент подробно обосновывает эту мысль опытом российского рынка.
«Финансовые структуры типа нашей в последние несколько лет захватили крупнейшие промышленные отрасли России, ...объединения типа ОНЭКСИМА купили себе все. Но при этом сказать, что они нехорошие люди, просто так вот, или что мы нехорошие, потому что мы кого-то купили ~ так сказать нельзя. Слабый всегда погибает (курсив мой. ~ Г.Д.). Если мы покупаем производство, которое стоит миллионы, оно действительно стоит миллионы, но на данный момент оно не стоит ничего. Если мы его не купим, оно просто умрет. Здесь нас можно сравнить с волками, которые очищают лес (курсив мой. ~ Г.Д.). И не просто очищают: если мы покупаем производство, мы на этом месте построим новое. И оно будет работать. Для кого-то мы ~ зло. Мы их съели, мы их выгнали с работы, но работать так, как они работали, это, я считаю, не работа. Вот, пожалуйста, две стороны: черное и белое».
В сущности, нижегородский менеджер выработал собственное решение тех коренных проблем соотношения морали и рациональности, особенно рациональности рыночных отношений, которые находятся в центре философской и общественной мысли эпохи модерна. Немецкий философ Ю. Хабермас определил интеллектуальную ситуацию, сложившуюся вокруг этих проблем как «патологию современного сознания»: по его словам, «морально-практические вопросы, типа «Что я должен делать?», поскольку на них нельзя дать ответа в аспекте целевой рациональности, уходят из поля разумного обсуждения» [62, с. 70]. Американский социолог Д. Белл, анализируя отношение между культурой, строящейся на принципе самоосуществления личности, и культурой капиталистического бизнеса, направляемой принципом эффективности, пришел фактически к выводу о «разрыве» и антагонизме этих двух культурных сфер [74]. К сходному выводу о несовместимости норм рынка и внерыночных ценностей приходит, опираясь на собственный опыт, и нижегородский менеджер: с его точки зрения, то, что полезно и рационально для развития экономики и общества, не обязательно должно соответствовать нормам морали. Традиционная для русской ментальности напряженная морально-этическая рефлексия, проблематика совести и доброты присутствуют в его внутреннем мире, но, в конечном счете, весьма гибко интерпретируются им в соответствии с его ролью агента рынка. Он являет собой выразительный пример того, как формируется сознание представителя нового, рыночного среднего класса ~ сознание, несущее в себе традиционные национальные культурно-этические установки и в то же время вполне адептное социальным функциям этого класса, императивам, которые предъявляет к нему рынок.
Еще одна нижегородская респондентка ~ 21-летняя студентка и одновременно начинающий менеджер. Учится на пятом курсе лингвистического университета и работает заместителем директора малой фирмы по обслуживанию компьютерных программ. Кроме того, собирается организовать группу школьников для занятий английским языком. Стажировалась в Англии и Германии. Ее личный доход ~ 1 400 руб. в месяц, но на члена семьи получается больше, так как хорошо зарабатывает отец. Относит себя к высокой ~ седьмой ступени социальной лестницы, так как у нее зарплата выше среднего, благополучное материальное и социальное положение, «широкий горизонт возможностей».
Нижегородская студентка-менеджер жизнерадостна, оптимистична, у нее четкие жизненные планы на несколько лет вперед. «Я хочу закончить курсы бухгалтеров и курсы менеджеров, и, как только их закончу ...не в ближайшем будущем, а года через три, поменять место работы». Собирается также получить второе высшее образование ~ экономическое или по шоу-бизнесу. «Самая смелая мечта, ~ рассказывает студентка, ~ я хотела бы организовать в нашем городе что-то типа клуба досуга». В этом клубе, по ее замыслу, будут заниматься дети, а приводящие их мамы («домохозяек сейчас очень много») одновременно тоже будут заниматься «чем-то по своим интересам». Кроме того, клуб станет местом проведения семейных праздников. В качестве предварительного шага на пути к созданию клуба она намерена открыть маленькое кафе, где будут проводиться тематические вечера.
Нижегородская студентка ~ вполне человек постсоветского времени, она ~ «нормативный индивидуалист» ~ разделяет принцип индивидуальной ответственности. Результаты преобразований последних лет оценивает положительно: «...появилось больше возможностей... Раньше люди ездили за границу, как в какую-то сказку, сейчас ~ нет, у нас все то же самое... Каждый, ~ считает она, ~ должен полагаться на самого себя, не ждать чего-то от правительства».
Материальная сторона жизни для нижегородской студентки, разумеется, важна, но в разумных пределах: она полагает, что чрезмерное богатство («больше, чем нужно») ведет к «испорченности». Потолок ее денежных аспираций ~ 5 000 руб. в месяц. В работе для нее самое интересное ~ общение с людьми. Очевидно, что этот приоритет, нацеленность на общение и его организацию, определяет ее профессиональные планы (кафе, клуб), переживается ею как призвание.
Моральное сознание респондентки строится по схеме, очень похожей на ту, которую мы встретили у финансового директора. И восходит к тем же культурным источникам. В соответствии со стереотипом национального самосознания она полагает, что в России «ориентир на духовные ценности» есть и будет «больше, чем на материальные», и, по-видимому, проецирует эту особенность «русской души» и на себя лично. Своей главной моральной ценностью называет честность и добавляет: «...я вообще очень принципиальный человек». Но тут же признает, что в профессиональной жизни испытывает внутренние конфликты, «потому что бизнес ~ это такое специфическое поле деятельности, там действуют свои, другие системы ценностей, чем, допустим в школе... В бизнесе не обязательно быть хорошей..., в школе я одна, на фирме другая».
Нижегородская студентка-менеджер, если она осуществит свои планы, возможно, внесет свой индивидуальный инновационный вклад в организацию повседневной социальной жизни социальных коммуникаций в своем городе. Но реализовывать этот вклад она будет без всякого «интеллигентского» идеализма и прекраснодушия, как сложившийся агент рынка услуг, к которому она приобщилась на раннем этапе своего жизненного цикла.
На этом контингент наших респондентов-менеджеров и специалистов-«рыночников» исчерпывается, и мы можем кратко обобщить представленные данные. Если рассмотреть их с точки зрения мотивации и личных ценностных ориентаций респондентов в сфере их профессиональной деятельности, можно констатировать две основные тенденции. Одна из них, которую условно можно назвать прагматически-инструменталистской, соответствует «классическим» целям агентов рынка ~ получению и наращиванию денежного дохода. Вторая тенденция ~ творчески-инновационная: она выражается в том, что самореализация личности, развертывание в профессиональной деятельности природных задатков и творческих способностей, знаний и культурного ее потенциала определяют личностный смысл, который человек придает своей работе. У одних и тех же людей из числа наших респондентов эти тенденции могут сочетаться в той или иной пропорции, но в некоторых случаях довольно отчетливо прослеживается доминирование одной из них. Удельный вес каждой из тенденций во многом зависит от индивидуальных психологических особенностей, но также и от других факторов. К ним относятся: конкретная жизненная ситуация (возраст, семейное и материальное положение и т.д.) и определяемые ею возможности, психологически фиксируемые в личном хабитусе; культурный субстрат личности, в том числе уровень ее связи с национальным ценностным архетипом, утверждающим приоритет духовных потребностей над материальными.
Мы не имеем возможности верифицировать эти наблюдения репрезентативными социологическими данными, однако мы можем сопоставить их с результатами упоминавшегося выше опроса российских менеджеров, проходивших в 2000 году стажировку по программе ТАСИС Европейского Союза. В ходе опроса менеджерам предлагалось, в частности, ответить на такой вопрос: «Какими факторами определяется уровень Вашей удовлетворенности выполняемой работой? Определите в процентах удельный вес следующих факторов: уровень дохода; возможности самореализации, творчества в труде, использования собственных знаний и способностей; возможности профессионального роста, карьеры; уровень автономии в труде: возможность принятия самостоятельных решений; отношения в коллективе; компетентность и стиль руководства предприятием».
Результаты опроса прежде всего подтвердили решающее значение двух названных тенденций в мотивации менеджеров. Фактор дохода оказался приоритетным: в среднем по контингенту опрошенных (частное от деления суммы названных в анкетах удельных весов на число заполненных анкет) его удельный вес составил 50,5%. Второе место занял фактор самореализации ~ 32%. Факторы карьеры и автономии имеют для опрошенных менеджеров весомое, но значительно меньшее значение: удельный вес того и другого составил в среднем по 15%; все остальные факторы «набрали» всего лишь по несколько процентов.
В ответах на данный вопрос преобладают цифры, отражающие более или менее равновеликое значение для респондентов обоих ведущих факторов (например, по 50% для дохода и самореализации). Очевидно, такие ответы выражают примерно такую позицию: «доход важен, но не менее важно и содержание труда» (или наоборот).
Особый интерес, однако, представляют ответы, в которых один из этих главных факторов значительно преобладает над другим или даже (были и такие) фиксируется как единственный значимый для респондента фактор. Среди менеджеров с отчетливо выраженной прагматически-инструменталистской ориентацией преобладают относительно молодые люди (80% из них принадлежат к возрастной категории до 35 лет) с относительно низким для данной профессиональной группы уровнем дохода (60% зарабатывают в месяц меньше 5 000 руб., 10% ~ 5 000-10 000 руб.). В целом «денежный» фактор сильнее влияет на мотивацию молодых менеджеров, перед которыми остро стоит проблема создания материальной базы для нормальной семейной жизни и которые получают слишком малый доход, чтобы быстро решить эту задачу.
Напротив, менеджеры среднего и выше среднего возраста, достигшие относите6льно высокого должностного и материального статуса, имеют возможность психологически полностью переключиться на содержательную сторону своей профессиональной деятельности. К числу таких людей принадлежит, например, 56-летний генеральный директор относительно крупного (между 500 и 1 000 работников) промышленного предприятия с личным месячным доходом между 10 000 и 20 000 руб.: для него самореализация и творчество в труде являются единственным фактором удовлетворения своей профессиональной деятельностью. Вместе с тем подобные корреляции отнюдь не являются каким-либо жестким правилом. Их способны «перекрывать» другие факторы, в том числе индивидуальные психологические особенности и культурный потенциал человека. Например, один из опрошенных менеджеров ~ 38-летний главный бухгалтер промышленного предприятия ~ имеет месячный доход менее 5 000 руб., но, оценивая удовлетворение работой, придает доходному фактору совсем небольшое значение (10%), и гораздо большее ~ по 30% ~ факторам самореализации и автономии. Другой респондент, 41-летний, работает менеджером издательской фирмы, получает ежемесячно больше 5 000, но меньше 10 000 руб., имеет гуманитарное (историческое) образование: нарушив исходное условие опроса (сумма удельных весов различных факторов не должна была превышать 100%), он приписал доходному фактору 40%, фактору самореализации 70%, а фактору автономии 100% удовлетворения своей работой.
В заключение отметим, что обе тенденции в принципе способны «работать» на рыночную трансформацию и модернизационный процесс. Первая формирует относительно массовый слой профессионалов, готовых осуществлять социальные практики, соответствующие принципам цивилизованного рынка, такие как индивидуальная ответственность, меритократия, максимальная мобилизация физических и интеллектуальных ресурсов, профессионализм. Вторая тенденция, в значительной мере опирающаяся на культурные традиции и культурный потенциал российского социума, ведет к формированию специфического творческого инновационного слоя агентов рынка, потенциально способного сыграть особо активную роль в модернизационном процессе.
В целом наши данные подтверждают впечатление, что инновационная роль менеджеров и наемных специалистов-«рыночников» в российских трансформациях проявляется шире и отчетливее, чем роль малых предпринимателей, что первые обладают более выраженным оптимистическим и инновационным настроем по сравнению со вторыми. Объясняется это, скорее всего, не какими-либо имманентными особенностями ментальности и поведения обоих слоев, но различиями в их объективной ситуации: нанимать профессиональных менеджеров, очевидно, могут только средние и крупные компании, многие из которых обладают позициями на рынке, значительно более сильными и устойчивыми, чем малый бизнес. Наши респонденты-менеджеры жалуются, как и малые бизнесмены, на произвол и вымогательство чиновников, на разорительную налоговую систему, но по всему чувствуется, что им не приходится столь непосредственно и повседневно сталкиваться с проблемой экономического и профессионального выживания, которая дамокловым мечом висит над мелкими собственниками.
Разумеется, это всего лишь гипотеза, для верификации которой необходимы специальные исследования.
Глава IV
СОЗНАНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ
В январе 2001 года Московская высшая школа социальных и экономических наук посвятила свой ежегодный симпозиум теме «Куда и кто стремится вести Россию?» Поворот отечественной научной мысли к проблеме субъективного фактора трансформационного процесса весьма знаменателен. В 1990-е годы шквал обрушившихся на российское общество непредвиденных (и никем, в сущности, не регулируемых) перемен побуждал и профессиональных социологов и общественное мнение воспринимать происходившее как своего рода стихийный катаклизм, возможно, развязанный или ускоренный первой волной рыночных реформ, но никак этими реформами не направляемый (если не считать теории об «антинародном заговоре» либеральных реформаторов, распространяемой «непримиримой оппозицией»,). Со временем становилось все более ясно, что подход к российским трансформациям как к явлению, которое происходит с людьми и обществом, недостаточен. Усилился интерес к тому, что делают сами люди, которые участвуют в этих трансформациях и так или иначе влияют своими действиями на их характер и направленность. Соответственно этому интересу к анализу российских реалий стали шире привлекаться те современные социологические теории, в центре которых находится проблема социального актора или субъекта, механизма и возможностей его влияния на институциональные и структурные социальные изменения (см. Введение).
Организаторы симпозиума января 2001 года вполне обоснованно расчленили проблему социального актора «по вертикали», сформулировав ее как проблему «макро-, мезо- и микроакторов трансформационного процесса». Совершенно очевидно, что персонажи настоящего исследования, с которыми читатель познакомился в предшествующих главах, представляют последний из названных, т.е. микроуровень социального действия. Особенности их участия в нем состоят, во-первых, в том, что они вырабатывают новые социальные практики в процессе индивидуальной адаптации к новой социально-экономической и институциональной ситуации. Во-вторых, в выработке этих практик они руководствуются не какими-либо социальными целями (как это было, например, со «строителями социализма» в 1920~1930-х годах), но своими индивидуальными материальными и нематериальными потребностями и ценностями, как заново осознанными, так и почерпнутыми из наличного культурного арсенала (хотя в некоторых случаях они и пытаются легитимизировать такие практики их социальной значимостью и полезностью).
Микроуровень ~ это, таким образом, уровень преимущественно индивидуальный. Содержание происходящих в его рамках трансформационных процессов состоит прежде всего:
l в практической и психологической интеграции индивидов в возникшие рыночные экономические структуры и практики (в частный бизнес, в обслуживающую его менеджерскую и иную профессиональную деятельность, в коммерциализацию традиционных профессий);
l в реализуемой на этой основе внутренней перестройке индивидов («модернизации человека»);
l как возможный, но не обязательный вариант ~ в обновлении ими самими собственных практик в ходе их осуществления.
В определенных ситуациях (например, в сфере научно-исследовательской деятельности) индивидуальные практики могут объединяться в микрогрупповые в рамках трудовых коллективов или «команд», интегрированных условиями данной профессиональной деятельности
Не менее очевидно, что макросоциальный инновационный результат подобных индивидуальных практик, их, иными словами, общественный эффект ничем не предопределен и не гарантирован и, если действительно имеет место, то носит непреднамеренный, следовательно, во многом случайный характер. Во-первых, потому, что какая-то часть индивидуальных субъектов, начав и продолжая осуществлять новую для себя и для общества в условиях данного исторического периода практику, совсем не обязательно вносит в нее свой собственный инновационный вклад. Такую ситуацию мы видели на примере мелких российских предпринимателей в сфере торговли и услуг. Их профессиональная активность может способствовать закреплению и распространению (омассовлению) таких практик, но не качественному продвижению макросоциального инновационного процесса в целом. Во-вторых, даже если индивидуальная практика по самой своей природе носит инновационный характер (как, например, в сфере научно-исследовательских разработок), она по тем или иным причинам институционального или экономического порядка может оказаться невостребованной на мезо- или макроуровне. Простейший «классический» пример такой ситуации дают многочисленные открытия и изобретения советского и постсоветского периода, не нашедшие применения в отечественной экономике.
Механизм подобных торможений инновационного процесса, разрыв между различными его уровнями и составляющими просматривается в тех современных концепциях социальных изменений, которые схематично были изложены в вводной главе данной книги. Так, из теорий Э. Гидденса и П. Штомпки вытекает, что для реализации социального изменения необходима стыковка («слияние») инновационных потенциалов социально-институциональных структур и индивидуальных акторов и агрегирование индивидуальных инноваций на мезо- и макроуровнях (распространение изменений). Иными словами, индивидуальная инициатива должна стимулироваться и «приниматься на вооружение» обществом. В случае отсутствия таких стыковок, инновационный процесс или останавливается, или принимает фрагментированный и локальный характер.
Общество, осуществляющее на основе своих взаимоотношений с индивидами инновационную деятельность, разумеется, не может рассматриваться как совокупность надчеловеческих институтов, норм, ценностей или безличностных отношений. Оно представляет собой в этом своем качестве совокупность социальных деятелей, акторов, групп людей, способных выдвигать и реализовывать инновационные цели. Переход от индивидуальной инициативы к социальному изменению ~ будь то изменение в сфере технологии, экономики, социальных отношений, культуры или политики ~ представляет собой, если использовать терминологию Штомпки, событие, в котором участвуют как авторы инициативы, так и люди, воплощающие инновацию в общественную практику. В этом процессе эвентуализации решающими пунктами являются, с одной стороны, интенция инициаторов к распространению инновации в общественном масштабе, с другой ~ интенция к реализации инновации, проявляемая всеми теми, кто, в силу объективных или субъективных факторов, может участвовать в ее распространении.
Поясним эту последнюю мысль на простейшем примере. Агентами утверждения в России цивилизованного бизнеса, основанного на принципах конкуренции, роста эффективности производства, качества товаров и услуг, являются в частности руководители предприятий и мелкие предприниматели. И те, и другие, естественно, стремятся максимизировать успех своих предприятий, но для части из них важен также определенный социальный смысл успеха ~ легитимизация их принципов экономической деятельности, социальное признание и институциональная поддержка, они желают не только преследовать определенные индивидуальные цели, но и выполнять полезные социальные функции. О таких людях можно сказать, что они в большей мере, чем другие, обладают качествами и потенциями агентов социальных изменений.
С другой стороны, для реализации таких изменений в конкретной сфере необходимо, чтобы какая-то, количественно значимая часть членов общества проявила готовность заняться малым бизнесом, т.е., в сущности, имитировать характер и принципы деятельности, «предложенные» ее первоначальными инициаторами. Для развития среднего и крупного цивилизованного бизнеса необходимо, чтобы нашлись люди, готовые и способные основать соответствующие предприятия и, что особенно важно в условиях постсоциалистического общества, чтобы достаточно значительная часть руководителей бывших государственных предприятий проявила готовность перестроить свою деятельность в соответствии с рыночными принципами. И в этом последнем случае механизм имитации инициатив первых директоров-«рыночников» в более широкой директорской среде играет значительную роль в реализации социального изменения.
Готовность к инициированию и восприятию инноваций ~ субъективный фактор таких изменений. В то же время пример с директорами иллюстрирует, как объективная ситуация, в которой находятся индивидуальные акторы, становится фактором их участия в инновациях. В качестве решающей стороны этой объективной ситуации выступает институциональная иерархическая позиция актора: директор крупного предприятия обладает позицией, позволяющей ему влиять на процессы, происходящие на среднем (мезо-) уровне экономической и социальной жизни, а переход инноваций с микро- на мезоуровень ~ очевидно, необходимое условие их воплощения в социальные изменения. Переход же этих изменений на макроуровень требует «подключения» к ним акторов, располагающих еще более высокими иерархическими позициями: в органах власти, политических и общественных организациях, СМИ, и других социальных институтах.
Изложенные соображения побуждают рассматривать роль в российской трансформации складывающегося среднего класса не только с точки зрения индивидуальных инновационных «вкладов» его представителей, но и с точки зрения используемых ими механизмов взаимообмена этими вкладами и их трансляции на социетальный уровень. Речь идет об уровнях и формах активности людей среднего класса в процессе социализации индивидуальных ценностно-нормативных и практических инноваций. Эта активность проявляется как в «горизонтальных» отношениях между индивидуальными акторами ~ через механизмы распространения и имитации инноваций, так и в отношениях «вертикальных» ~ между этими акторами и макросоциальным, в том числе институционально-политическим, уровнем общественной действительности.
Такой подход к роли среднего класса, (а точнее, учитывая его гетерогенность, ~ средних классов) раскрывает их качества социальных акторов. В методологическом плане он предполагает перенос акцента с понимания класса как объективной категории, реальность которой подтверждается экономическими, культурными, социально-статусными параметрами его положения, на его понимание как субъекта социального действия.
В современной социологии подобное понимание классов и его соотношение с традиционными, в особенности марксистскими, представлениями наиболее полно обосновано в теории социального действия А. Турена [58, 91]. Французский социолог отказывается и от структур-функционалистской (парсоновской) концепции общества как определяющей действие системы ценностей, ролей и статусов, и от марксистской идеи «основополагающего антагонизма, противопоставляющего друг другу два совершенно противоположных мира, соответствующего двум социальным классам». Вместо этого Турен пытается построить своеобразный синтез «идеи центрального социального конфликта» и «идеи ориентированного на ценности действия». Такой синтез необходим, по его мнению, потому, что базовой характеристикой, объединяющей современные общества, становится их растущая способность «воздействовать на самих себя, т.е. увеличивать дистанцию между производством и воспроизводством собственной жизни», «единство современных обществ должно бы определяться... как освобождение человеческой способности к творчеству» [58, 91]. Общество Турен предлагает рассматривать «как совокупность правил, обычаев, привилегий, против которых направлены индивидуальные и коллективные творческие усилия» [58, 91]. Конечный результат этих усилий, собственно, и выражается в самообновлении общества, которое осуществляется через социальный конфликт носителей инновационных тенденций с защитниками старых правил и привилегий.
В понятие социального или классового конфликта и в представление об его «центральной роли» в эволюции общества, воспринятые Туреном от марксизма, он вкладывает иное содержание: этот конфликт порождается социальным неравенством, выражающимся в отношениях власти. «Ставкой» в конфликте являются культурные модели или ориентации ~ совокупность культурных, когнитивных, экономических, этических моделей, присущих данному обществу на определенной исторической фазе его развития (Турен называет их «историчностью»): конфликтующие стороны ориентируются на одни и те же культурные модели и борются за овладение контролем над их реализацией, «за то, чтобы придать различные социальные формы одним и тем же культурным ориентациям», трансформировать их в определенную систему социальных отношений, в определенную общественную практику.
Турен считает в принципе возможным называть конфликтующие группы социальными классами, но в то же время полагает, что «это понятие может создать больше путаницы, чем ясности... Противоположность между определением классов через их положение и их определением как действующих лиц, ориентированных на ценности и включенных в общественный конфликт, с моей точки зрения, так важна, что кажется более предпочтительным говорить об общественных движениях, чем об общественных классах. Хотя, по-видимому, невозможно прекратить употреблять слово «классы» для обозначения социальных категорий, с которыми связаны общественные движения» [58, 91].
Итак, Турен не отказывается вовсе от понятия «объективного» класса как группы, образующей «базу» социального действия, но придает ему вторичное или вспомогательное познавательное значение по сравнению с непосредственно действующей группой. А высшей формой такой действующей группы, группой, способной действительно обновлять, т.е., по его терминологии, производить общество, является социальное движение. В связи c этим стоит напомнить процитированную в вводной главе критику Э. Гидденса Н. Музелисом: именно социальное движение данный автор считает той формой, посредством которой рядовые, не имеющие высоких иерархических позиций индивиды только и могут осуществлять структурные изменения на макросоциальном уровне.
Социальные движения в качестве одного из главных элементов общественной жизни Турен отделяет от двух других ее элементов: историчности, т.е. совокупности культурных моделей, и субъекта, «взятого в дистанции от организованной практики и в качестве сознания» [58, с. 56~61; 91, p. 94~104]. Речь здесь, очевидно, идет прежде всего о познавательных категориях: понять общественную жизнь в целом можно лишь анализируя по отдельности сознание образующих общество людей; культурные модели, на которые они ориентируются; их способность или интенцию формировать общественные движения, выступающие в роли движущей силы крупных социальных изменений.
Концепцию Турена вряд ли можно рассматривать как готовую методологическую «инструкцию» для анализа российской действительности и роли в ней среднего класса (мне представляется, в частности, сомнительным его тезис о культурном единстве современных обществ). Тем не менее его концепция, на мой взгляд, очень помогает сформулировать вопросы, ответить на которые необходимо, чтобы понять, в чем состоят качества этого класса как субъекта социального действия.
Попытаемся сформулировать некоторые из этих вопросов.
Вопрос первый: что представляет собой сознание людей среднего класса в аспекте его отношения к макросоциальной, в том числе политической, действительности российского общества?
Вопрос второй: какие культурные модели ориентируют это сознание? (Ответ на него в какой-то мере представлен в предшествующих двух главах данной работы).
Вопрос третий: являются ли люди среднего класса реальными или потенциальными участниками определенного социального конфликта и, если да, то какого именно?
Вопрос четвертый: к каким формам социального действия предрасположены люди среднего класса, в частности, в какой степени они обладают субъективными возможностями к инициированию и организации социальных движений?
В рамках нашего весьма ограниченного эмпирического материала мы будем строить анализ этих вопросов на следующих группах данных. Во-первых, используя имеющиеся репрезентативные социологические данные о социально-политических взглядах людей среднего класса и сопоставляя их с суждениями респондентов наших углубленных интервью. Во-вторых, привлекая к анализу данные о социальной практике и культурных ориентациях тех представителей среднего класса, которые, в отличие от большинства респондентов нашей выборки, занимают социально-иерархические позиции, позволяющие им действовать на мезоуровне российского социума. Значение таких данных определяется тем, что эти люди выступают не только как индивидуальные акторы, но и как организаторы определенных институционализированных социальных действий. Соответствующий эмпирический материал мы находим в «рефлексивных биографиях» представителей региональной деловой, культурной и административной элиты, опубликованных и проанализированных тюменскими социологами.
ОБРАЗ ОБЩЕСТВА, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ЛЮДЕЙ СРЕДНЕГО КЛАССА
Репрезентативные опросные данные об общественно-политических воззрениях российского среднего класса широко представлены в исследовании РНИСиНП [53]. Приведем наиболее характерные из них: 2,1% респондентов из высшего и 4,5% из среднего слоя среднего класса высказались за плановое хозяйство, соответственно 29,2% и 37,9% ~ за государственную собственность с элементами рынка и частной собственности; 68,7% верхнего и 57,5% среднего слоя ~ за частную собственность с элементами госрегулирования или свободный рынок. В поддержку принципа конкуренции высказались 87,8% опрошенных, 12,2% ~ против; 80,9% отвергли принцип уравнивания доходов и поддержали требования их зависимости от результатов работы.
Таким образом, экономический либерализм если не абсолютно господствует, то, во всяком случае, преобладает в данной весьма гетерогенной социальной среде. В то же время в большинстве случаев это либерализм отнюдь не радикальный, сочетающийся с убеждением в необходимости сохранения или даже усиления государственного регулирования и государственной системы социальных гарантий. Среди опрошенных 59,9% высказались в пользу усиления роли государства в экономике и 40,1% ~ за расширение роли частного сектора; 52,9% сочли необходимым, чтобы государство больше заботилось о социальном благополучии всех членов общества и 47,1% предпочли сами обеспечивать собственное благополучие. Возложили на государство: обеспечение рабочего места ~ 64,1%, гарантии справедливой оплаты труда ~ 60,1%, медицинское страхование ~ 81,7%, пенсионное обеспечение ~ 90,3%. Такой же умеренный либерализм преобладает и в отношении к проблеме социального неравенства. Абсолютное большинство респондентов из всех слоев среднего класса считает в принципе справедливой зависимость качества образования детей от финансовых возможностей родителей, однако лишь меньшинство их (25% в ~ верхнем, 11% ~ в среднем слое) отрицает необходимость мер, направленных на создание равных возможностей для всех членов общества.
Либеральная ориентация среднего класса коррелируется с его отношением к опыту западных обществ и значению этого опыта для России. С тезисом «западные ценности подходят для России» согласились 37,5% опрошенных из верхнего и 34,7% ~ из среднего слоя, с тезисом «России нужен свой путь развития» ~ соответственно 33,3 и 29,7% .[53, c. 154, 160, 163, 179, 182, 183].
Данные других источников показывают, что смысл, вкладываемый российскими респондентами в ответы на подобные вопросы, весьма неоднозначен. Так, выбор «своего пути» часто означает не тотальное отторжение западного опыта, но убеждение в неразумности его слепого копирования, в необходимости его выборочного применения с учетом российских условий. С другой стороны, как свидетельствуют те же данные, в весьма многогранном западном опыте россияне в той мере, в какой они знакомы с ним, воспринимают его дифференцированно, с учетом различных западных «моделей». Так, сторонники «западного пути» чаще имеют в виду западноевропейскую (или социал-демократическую) модель, чем американскую; иными словами, высказываются за социально ориентированную рыночную экономику, за сильную систему государственного регулирования и социальной защиты, ограничивающую рыночную стихи (. [14].)ю. Такая позиция не противоречит экономическому либерализму в широком смысле слова, включающему ценности свободного рынка, конкуренции и частной собственности, но отличается от «антигосударственнического» либерализма фон Хайека, М. Фридмана и некоторых российских радикал-либералов. Данный вариант западной модели лишь весьма условно можно назвать социал-демократическим, ибо в Европе идейно-политическое противостояние социал-демократии и либерально-консервативных течений (левых и правых) не затрагивает основ этой модели, прежде всего ~ принципа универсальных социальных гарантий. Спор идет лишь об их объеме и механизме распределения. В последнее же время происходит сближение социально-экономических платформ социал-демократов и либералов на основе своего рода социального либерализма [43].
Именно к такого рода либерализму ближе всего идеалы основной массы российского среднего класса. Его в основном либеральная мировоззренческая ориентация выразительно подтверждается выбором между ценностями свободы и равенства, символизирующими в современном общественном сознании наиболее фундаментальную альтернативу возможных типов устройства общества. В конце 1998 ~ начале 1999 года за общество социального равенства высказалось 54%, а за общество индивидуальной свободы 26,6% опрошенных россиян. Выбор респондентов из среднего класса ~ прямо противоположный: 45% этого контингента предпочли бы жить в обществе индивидуальной свободы и 26% ~ в обществе социального равенства. Приверженность к свободе как основе общественного устройства, таким образом, не только характерна для большинства российского среднего класса, но и является специфической особенностью его мировоззрения, отличающей его от остальной части общества.
Если перейти от этой основополагающей мировоззренческой ориентации к более конкретным идейно-политическим взглядам и позициям, картина становится гораздо более пестрой. Так обстоит дело, например, с отношением среднего класса к политической демократии. Примерно половина представляющих его респондентов согласилась с тезисом «демократическими правами нельзя поступаться ни в коем случае», а другая половина с тем, что «в стране необходимо установить режим твердой власти». Вторую позицию вряд ли можно безоговорочно рассматривать как поддержку перехода к авторитарному режиму: она может выражать просто реакцию на слабость и разболтанность центральной власти в конце ельцинского президентства, требование наведения элементарного порядка во властных структурах. Тем не менее, приоритет именно этого требования, по сравнению с защитой демократии, говорит по меньшей мере об отсутствии твердой демократической доминанты в политическом сознании значительной части средних слоев.
Вопрос об идейно-политических ориентациях среднего класса, разумеется, нельзя рассматривать в отрыве от характерных особенностей постсоветской политической жизни. Как известно, ее отличают «дворцовые» закрытые от общества способы и механизмы принятия политических решений в высших эшелонах власти, отсутствие четкого идеологического и программно-политического кредо как у властных группировок, так и у большинства партий и других борющихся за власть организаций, невыраженность связи партийно-политической деятельности с интересами больших социальных групп, отчужденность «политического класса» от основной массы населения. Единственный более или менее явный принципиальный идеолого-политический конфликт между консервативно-авторитарной (КПРФ, национал-патриоты, «жириновцы») и реформаторско-демократической тенденциями доминировал в политической жизни в основном в первой половине 1990-х годов. Затем он все больше стал отходить на задний план в связи с выходом на авансцену безликих в программно-мировоззренческом отношении чиновничьих «партий власти» (НДР, «Отечество ~ вся Россия», «Единство») и идеологически индифферентного («равно удаленного» от противоположных идеологий, или равно близкого к ним) второго российского президента.
Фундаментальной чертой массового общественно-политического сознания в постсоветской России, без учета которой невозможен его корректный анализ, является своего рода когнитивный вакуум, крайний дефицит макроэкономических и политических знаний. Большинство населения крайне слабо представляет себе суть происходящих экономических и политических процессов, движущие силы, содержание и возможные последствия различных вариантов развития страны. Выявляемые политологами линии дифференциации между конфликтующими тенденциями массового сознания ~ модернизаторской и традиционалистской, уравнительной и индивидуалистически-элитарной, демократической и авторитарной, западнической и почвеннической [65] ~ имеют скорее эмоционально-ценностную, чем рациональную, основу. Высказываясь за свободный рынок или государственное регулирование, за демократию или «жесткую власть», за западную модель или «свой путь», люди очень плохо представляют себе конкретные экономические и политические реалии, стоящие за каждой из этих альтернатив. Инициаторы и лидеры либеральных реформ никогда не пытались толком объяснить обществу, что и зачем они хотят сделать, протагонисты государственного регулирования не сообщают, чем оно должно отличаться от провалившегося социалистического планирования. «Западную» модель знают в основном по внешним признакам благосостояния и материальной культуры, либо по националистической критике ее «бездуховности», оставаясь в неведении относительно внутренних механизмов ее функционирования. Что же касается «особого русского пути», то в чем именно он состоит, не способны объяснить даже его проповедники. Не лучше обстоит дело с демократией: в ходе опросов более 85% российских респондентов заявляют, что не имеют о ней ясного представления. [11, опрос 96~4; 13, с. 40, 41].
С точки зрения социальной психологии любая социальная установка, в том числе и политическое убеждение, помимо ценностного, включает когнитивный компонент: только знание о содержании определенной политической цели или идеала придает ему силу и устойчивость, превращает в органический, «глубинный» элемент сознания и личностной идентичности. При отсутствии этого компонента идейно-политические ориентации или вообще не вырабатываются, или приобретают поверхностный, конъюнктурный и неустойчивый характер. Среднему россиянину экономическая и политическая жизнь его страны представляется чаще всего хаосом, а деятельность субъектов политики ~ борьбой чуждых его интересам и заботам «элитных» группировок; поэтому у него просто отсутствуют ориентиры, которые позволили бы ему самоопределиться в идейно-политическом плане. Дезориентация ~ прямое следствие когнитивного вакуума и взаимоотчуждения элиты и общества.
Все эти особенности сегодняшнего российского массового сознания достаточно характерны и для среднего класса. Политические взгляды, симпатии и суждения даже тех его представителей, которые принадлежат к более или менее однородным по своему социально-экономическому положению слоям, не только различны, но нередко противоположны, они отличаются неустойчивостью, аморфностью, а то и просто отсутствием каких-либо осознанных позиций.
Так, по данным исследования РНИСиНП, в 1999 году чуть больше половины респондентов из верхнего и среднего слоев среднего класса выступали в поддержку существующей власти и чуть меньше половины считали, что нужно ее заменить. Не смогли идентифицировать себя ни с одним из названных в анкете идейно-политических течений (коммунистическим, национал-патриотическим, социал-демократическим, радикальным либерально-реформаторским) или высказались в духе идеологического эклектизма 57% представителей верхнего слоя и 58% среднего слоя. Около половины респондентов заявили, что в России нет политических партий, выражающих их интересы и чаяния [54, c. 189, 193].
Весьма противоречив и неустойчив политический выбор среднего класса, что проявляется в его электоральном поведении. Так, на выборах в Государственную Думу в декабре 1993 года наиболее популярными партиями, движениями и блоками среди основных профессиональных групп средних слоев были «Выбор России», «Яблоко» и «Женщины России». К весне 1995 года их симпатии разделялись уже между «Яблоком», «Демократическим выбором России», КПРФ и ЛДПР [42, c. 22, 23], т.е. охватывали все сектора политического спектра. В 1999 году, в момент, когда еще не были сформированы движение «Единство» и «Союз правых сил», а Путин еще не был кандидатом в президенты, наиболее популярными в среднем классе были «Отечество» (22% сторонников в верхнем и около 18% ~ в среднем слое) и «Яблоко» (соответственно 13,5 и 20%); рейтинг КПРФ не превосходил 6%, а ЛДПР ~ 2%. Наиболее популярными кандидатами в президенты в этих слоях были тогда же Явлинский (особенно среди гуманитарной интеллигенции, служащих и предпринимателей), Примаков (особенно у руководителей высшего и среднего звена, фермеров), Лужков (более всего у предпринимателей и работников торговли); симпатии ИТР разделялись примерно поровну между этими тремя политиками [53, c. 196~198]. Появление на политическом горизонте Путина и «Единства» наверняка сильно изменило эту картину.
В целом в ельцинский период постсоветской истории электоральные симпатии среднего класса колебались в основном между демократическим (ДВР, Явлинский, «Яблоко») и, условно говоря, центристским или деидеологизированным «государственническим» (Лужков, Примаков, «Отечество») секторами политического спектра. Для путинского периода мы не располагаем соответствующими данными, однако некоторые гипотезы относительно эволюции конца 1999~2000 годов позволяют сделать данные опросов Фонда «Общественное мнение», относящиеся к «оптимистам». Как отмечалось выше, эта группа населения, скорее всего, в значительной мере совпадает с наиболее адаптированной, мобильной и профессионально успешной частью среднего класса.
В период с сентября 2000-го по начало 2001 года примерно половина (в отдельные периоды несколько меньше или несколько больше) оптимистов ~ это сторонники Путина, рейтинг президента в этой группе превышает, правда, незначительно, его рейтинг в электорате в целом. Рейтинг Явлинского среди оптимистов тоже чуть выше среднего (4% против 3%), но значительно ниже его рейтинга в среднем классе в 1999 году. Рейтинг Зюганова (8%) примерно в два раза ниже, чем в среднем по стране [59, c. 7, 33].
Даже независимо от этих данных переход большей части среднего класса под знамя Путина вряд ли может вызвать сомнения. Психологически это объяснимо. Не будучи в состоянии преодолеть неопределенность и эклектичность своего политического менталитета на основе какой-либо целостной системы взглядов, люди среднего класса тем охотнее приняли предложенный им способ такого преодоления: идентификацию с лидером, как бы персонифицирующим и легитимирующим эту самую эклектичность. Идеологическая всеядность (или индифферентность) второго российского президента, готовность провозглашать одинаковую верность демократии, либерализму, жесткому государственничеству, великодержавию, ценностям современной цивилизации, реформаторскому курсу, советским, в том числе чекистским, и досоветским традициям, очевидно, оказалась комфортной для всех тех, кому, по причинам объективного или субъективного порядка, затруднительно сделать принципиальный ценностно-идеологический выбор. Ибо предполагаемые решительность, воля, прагматизм первого лица кажутся им достаточно эффективной заменой целостной политической идеологии.
Такова картина, которую рисуют данные репрезентативных социологических опросов. Посмотрим, насколько подтверждают, уточняют или корректируют ее наши интервью.
Среди наших респондентов довольно отчетливо выделяется группа людей, интериоризировавших ценности демократической либеральной субкультуры, сложившейся еще в доперестроечный и перестроечный период в основном в среде научной и гуманитарной интеллигенции столичных городов. Так, 62-летний ученый-химик из московского академического института рассказывает, что в его лаборатории в советское время считалось неприличным вступать в партию. По своим экономическим и политическим взглядам респондент ~ последовательный либерал-западник. Идеал для него ~ принципы американской и французской Конституции, соответствующее им государственное устройство. Функции государства должны ограничиваться, по его мнению, созданием законов, обеспечивающих саморегулирование общественной жизни, «защитой личности, семьи, собственности, производства» от внешней угрозы и внутренних беспорядков. Земля, считает респондент, должна находиться в частной собственности и быть «как и во всем мире ...предметом торговли». «На все остальное» тоже должна быть частная собственность, хотя, ссылаясь на западноевропейский опыт, респондент считает возможной и государственную собственность на естественные монополии, предприятия крупной промышленности, банки («железные дороги в Англии и какие-то горные предприятия то национализировались, то денационализировались несколько раз»). Конкретное соотношение государственной и частной собственности он ставит в зависимость от экономической целесообразности и рационального расчета, определять его ~ дело специалистов («надо спросить у доктора экономических наук, а не химических»).
Доктор химии не дифференцирует отчетливо американскую и западноевропейскую («французскую») модели, но из этих и других его высказываний видно, что на самом деле для него предпочтителен европейский вариант. Так, на входящий в программу интервью вопрос, предлагавший респондентам выбрать один из трех вариантов системы социального обеспечения: советский, американский (защита только обездоленных и беспомощных: сирот, инвалидов, одиноких стариков) или европейский (государство гарантирует некоторый минимум всем), он отвечает: «интуитивно хочется сказать, что третий лучше, но встает вопрос о количестве, о соотношении». Это соотношение должно быть таким, чтобы действительно нуждающиеся не оказались обездоленными, и чтобы не было социалистической уравниловки. Например, если у человека 16 детей, это его «добрая воля», и он не должен рассчитывать, что будет содержать их за счет государства. В общем, сам того не осознавая, респондент ставит те же вопросы эффективности и адресности социальной поддержки, ответы на которые ищут в последние годы западноевропейские политики. Но для него, как и для западных политиков, несомненен сам принцип, в соответствии с которым «государство заставляет людей с большими доходами помогать людям с меньшими».
Респондент обладает стойким иммунитетом против любых проявлений идеологии и практики национальной обособленности и национализма. Он считает, что Россия должна интегрироваться в мировую цивилизацию, а «мир в идеале должен быть устроен как некое совершенно интегрированное общество ...при естественном сохранении некоторых национальных особенностей...» В рамках интегрированной мировой экономики Россия должна производить лишь то, что у нее лучше получается, например, ракеты, самолеты. («Не нужно производить компьютеры».) Респондент предпочел бы ездить на хорошей машине «безотносительно к тому, кто и где ее произвел». Он не боится утраты каких-то национальных ценностей в случае интеграции России в глобальную цивилизацию, а по поводу тезиса об особой русской духовности говорит: «...я совершенно не уверен, что вот это распространенное мнение на чем-то основано... Я не понимаю, откуда следует, что ...человек с гражданством России более духовен, чем человек с гражданством Италии». Антисемитизм ему отвратителен: будь его воля, он «набил бы морду» Макашову». Столь же негативно он воспринимает разговоры о якобы заполонивших Москву «лицах кавказской национальности». Утверждение о том, что у России есть какие-то геополитические интересы, например, на Балканах, он просто не понимает, а по поводу российской внешней политики говорит, что «не стал бы поддерживать на государственном уровне отношения с Ливией, с Ираном, с Ираком, с Северной Кореей».
Политический выбор респондента вполне соответствует его либеральным взглядам. Он ~ сторонник идейно-политического направления, «которое пропагандирует рыночные капиталистические устои в экономике и современную демократию в государственном устройстве». Это направление представляют, по его мнению, «при нынешнем раскладе» «Демвыбор России», а персонально ~ Гайдар, Чубайс, Кириенко. «При всех оговорках» он доверяет «в публичной политике» также и Явлинскому, хотя лидер «Яблока» нередко вызывает у него антипатию: «...всегда он критикует ...и никогда не говорит, что нужно изменить, ...кроме общих фраз ... Мне кажется, что в личном плане он менее интересный, менее порядочный, чем тот же Гайдар. Я бы с большим удовольствием провел вечер с Гайдаром, чем с ним, в приватной обстановке».
У поколения интеллигентов-либералов, взгляды которых окончательно сформировались в период политической борьбы конца 1980-х ~ начала 1990-х годов, политические симпатии более или менее жестко зафиксировались на течениях и персоналиях, лидировавших в этой борьбе: на либералах-гайдаровцах у одних, на Явлинском с «Яблоком» у других. Любое другое демократическое течение с его лидерами вызывает большее или меньшее недоверие, но не отторгается целиком, рассматривается скорее как родственное. С такого рода позициями мы встретились у ряда наших респондентов, относящихся к данной социально-культурной среде.
При этом поклонники Явлинского обычно более критически настроены по отношению к «ельцинскому режиму», для тональности их оценок экономической и политической ситуации в стране и деятельности власти характерны, как и для большинства населения России, мотивы крайнего негативизма и возмущения. У «гайдаровцев» подобные мотивы приглушены, они критикуют не столько своекорыстие, олигархический и авторитарный характер или коррумпированность власти, сколько ее недостаточную функциональность.
Так, московский ученый-химик приветствует проведенные в стране реформы и «огорчен только тем, что очень медленно это получается и не перестраивается, как следует». Власти, по его мнению, «играют недостаточную роль в жизни страны, есть доля безвластия, которая скорее всего связана с величиной коррумпированности... Все власти не делают того, что нужно». Характерно, что коррупция рассматривается здесь как явление, существующее как бы помимо власти, во всяком случае, ее высших эшелонов. Негативные социальные последствия реформ, столь болезненно переживаемые российским обществом, в этом интервью вообще не упоминаются. Люди, подобные респонденту, под влиянием памяти об августе 1991 года и других событиях недавнего прошлого одновременно ощущают и свою причастность к постсоветской власти, и отчужденность от нее («...меня-то никто не спрашивает», ~ говорит он о своих отношениях с ней). Эта смесь конфликтности и отторжения до известной степени подавляет склонность к критическому анализу политических реалий.
Во взглядах пожилого московского ученого просматриваются и другие любопытные оттенки, не вполне вписывающиеся в образ последовательного демократа-либерала. В демократическом идеале ему ближе всего принцип власти закона, который, по его мнению, не реализуется в постсоветской России: «отсутствует гарантия исполнения законов», «очень многое в нашей жизни регулируется подзаконными актами», чиновники сплошь и рядом принимают произвольные решения, противоречащие законам. Что же касается демократии в буквальном смысле слова, т.е. власти народа, тут позиции респондента не столь определенны. С одной стороны, он соглашается с цитируемой по памяти формулой Черчилля «Демократия плоха, но нет ничего лучше», с другой ~ утверждает, что «кухарка не должна управлять государством» и далее ставит под сомнение некоторые стороны западного демократического опыта: «Я не уверен, что демократические принципы, в свое время провозглашенные в Голландии, Америке, Франции, действительно так хороши». И далее высказывается за введение избирательных цензов: образовательного и по оседлости («по прописке населения»)... Если перед нами здесь либеральный идеал, то, во всяком случае, не современный, а архаический ~ где-то на уровне «элитарного» либерализма начала XIX века.
Респондент объясняет, почему он предпочитает ограниченную, цензитарную демократию: «...к сожалению, народ-то в основном темный». Общество станет жить по законам, только когда «изменится сознание», но о том, как и под влиянием каких факторов может произойти это изменение, он ничего не говорит.
В целом в своем отношении к «большому обществу» либералы, подобные респонденту, ощущают себя, хотя и не вполне осознанно, достаточно изолированной элитарной сектой. Над ними власть, на которую они возлагают определенные ожидания, но никак на нее не влияют и никак ее не контролируют, под ними и вокруг них ~ «в основном темный» народ. Иными словами, с этим «большим обществом» у них нет ни прямых, ни обратных, ни вертикальных, ни горизонтальных связей. И к установлению таких связей они, похоже, не особенно стремятся. Эта группа является одной из наиболее продвинутых в плане освоения модернизаторской идеологии и ментальности, но перспективы ее влияния на социетальный уровень модернизационного процесса представляются довольно сомнительными.
Трудно сказать, в какой мере взгляды интеллигентов-либералов являются плодом их собственных размышлений и в какой восприняты ими из «внешних» источников общественно-политической информации, в особенности из либерально ориентированных СМИ. Московский ученый-химик, как и другие наши респонденты с похожими взглядами, активно интересуется политикой, читает «Известия», смотрит НТВ, слушает «Эхо Москвы». Но, судя по его высказываниям о демократии и проблемах собственности, он склонен «просеивать» известные установки «своего» идейно-политического течения, искать собственные ответы на наиболее сложные вопросы. В этом, наверное, сказываются навыки научного мышления.
Некоторые другие ученые-«естественники» из нашей выборки такой склонности не проявляют и как бы «чохом» безоговорочно принимают хорошо известную им либеральную доктрину. Так, 48-летний петербургский физик-ядерщик, тоже сторонник ДВР, поклонник Гайдара и Чубайса, явно считает единственно приемлемой для России западную, скорее даже американскую модель экономического и политического устройства. «Особый русский путь» может привести, по его мнению, только в Африку. Респондент повторяет либеральный тезис «чем меньше государства, тем лучше», признает возможной государственную собственность только на леса, ядерно-ракетный комплекс, частично (через владение акциями) ~ на предприятия ВПК. В остальном же функции государства сводятся к обороне, поддержанию порядка и надзору за соблюдением «правил игры». Необходимо, считает респондент, свести к минимуму его возможности делить ресурсы.
Эта стройная и вполне банальная либеральная концепция тут же частично опровергается некоторыми более конкретными суждениями ученого. Так, он высказывается за бесплатное медицинское обслуживание, за государственное финансирование науки и культуры, которое должно обеспечиваться путем перераспределения доходов через налоговую систему. Создается впечатление, что общие идеологические установки респондента, заимствованные, очевидно, из доступных ему либеральных источников, легко забываются, когда речь заходит о реальных общественных и групповых потребностях, удовлетворить которые невозможно без участия государства.
Политические взгляды петербургского ядерщика столь же идеологически выдержаны, сколь экономические, не замутнены, как у московского химика, какими-либо сомнениями в достоинствах западной модели. Он ~ последовательный демократ, демократия означает для него свободные выборы, уважение к выбору большинства, свободу информации. По поводу политического строя современной России он высказывает взгляд, довольно редкий для наших соотечественников: «демократия у нас полная». Столь безоговорочная оценка, вероятно, объясняется не столько политическим конформизмом респондента, сколько значением, которое он придает формально-институциональной стороне политической жизни, ее сходству с принципами западной модели. В то же время, сравнение России с этой моделью приводит его к выводу о необходимости развития гражданского общества, «самоорганизации народа», как в США, ~ «народ у нас разобщенный».
В рассуждениях петербургского физика не звучит противопоставления темной массы и просвещенного меньшинства, какое мы встретили у московского доктора химии. Тем не менее, и он склонен объяснять трудности российской модернизации, главным образом,особенностями культуры и ментальности большинства россиян: присущей русскому национальному характеру «авральностью», отсутствием привычки к систематическому труду, православной религией (респондент, по-видимому, что-то слышал об идеях «Протестантской этики» М. Вебера, поскольку считает, что «наибольшего успеха добились те страны, где главенствующая религия ~ протестантская»). В суждениях о российской ситуации респондент проявляет умеренный оптимизм, верит в неизбежность движения страны к либеральному идеалу («...это все меняется..., так быстро все не получится ... Какой-то скачок произошел, а дальше ... Каждый за себя отвечать будет»). Но он вряд ли сколько-нибудь конкретно представляет себе, какие силы или социально-политические процессы обеспечат такое движение, похоже, и не очень задумывается над подобными вопросами. Скорее, разрыв между идеалом и сегодняшней («не очень хорошей», по его словам) реальной действительностью заполняется своего рода оптимистическим фатализмом. Возможно, мы встречаемся здесь с одной из типичных психологических особенностей либерально ориентированного меньшинства российского социума.
В остальном же наши респонденты-ученые, оба, ~ люди идеологически и политически ангажированные; они идентифицируют себя не только с либеральной платформой, с представляющим ее политическим течением и его лидерами, но и с вектором инициированных либералами макросоциальных и политических перемен. Очевидно, именно поэтому, видя кризисное состояние российского общества, они не склонны к острой критике положения дел и политики российской власти; не ищут виноватых в политическом руководстве страны. Этим они, несомненно, отличаются от подавляющего большинства своих соотечественников, в том числе и от людей среднего класса: столь жесткая и целостная идейно-политическая ориентация и соответствующее ей политическое поведение характерны скорее для коммунистического и отчасти национал-патриотического электората и относительно редки в остальной части общества. Однако общие мировоззренческие позиции, лежащие в основе либеральной ориентации, достаточно типичны для представителей среднего класса, независимо от их отношения к существующей власти, к либеральным политическим организациям и их лидерам.
Приведем данные других интервью, раскрывающие взгляды респондентов на оптимальное политическое и экономическое устройство России и их политические позиции.
Студентка, менеджер, 21 год, Нижний Новгород: «Каждый должен полагаться на себя, не ждать чего-то от правительства»; «управление государства в экономике должно быть сведено к минимуму»; в России власть авторитарная (особенно президента), а должна быть демократия «как в Америке». Политикой не интересуется, а на вопрос, к кому себя чувствует ближе из идейно-политических течений отвечает: «...не к коммунистам, это уж точно. Демократы скорее».
Инженер, низший менеджер, 52 года, Москва. На вопрос: «На каких принципах должно быть построено общество?» ~ отвечает «демократия само собой, это обязательно. И принципы гуманизма... Максимум свобод и главенство законов. Без рынка нельзя, я считаю». Главный недостаток российской экономической и политической системы ~ «отсутствие профессионализма». «Все партии декларируют примерно одинаковые цели, несмотря на то, что они правые или левые. Декларация одна и та же и нацелена чисто на завоевание электората, а не на дело, и ни одна из партий толком не описывает средств, какими можно достичь вот этих высоких красивых целей». Поэтому респондент не определился в своем политическом выборе, его позиции «колеблются в зависимости от того, кто последний что сказал. Иногда я примыкаю к «Яблоку», иногда к Жириновскому, иногда к коммунистам, но это реже... А из лидеров скорее к Явлинскому тяготею, в последнее время, может быть, к Путину».
Исследователь-теплофизик, 53 года, Москва. Политикой не интересуется. Одобряя в целом рыночные преобразования, считает, что их стратегия с самого начала была избрана неправильно, исходила из утопического представления о возможности за 500 или 800 дней вывести страну на европейский уровень. Ситуацию в экономике оценивает умеренно-оптимистично, считает возможными изменения «в лучшую сторону», если не будут мешать. Под помехами, как можно понять из не очень ясных рассуждений респондента, он имеет в виду налоговое законодательство и монополизм.
Политический идеал респондента носит этический характер. Главное ~ это «порядочность руководителей», но «все наше руководство практически этим не страдает». Свои политические позиции определяет так: «...не правый, не центр, не, Боже сохрани, левый, наверное, между центром и правым». В остальном же в своем политическом выборе руководствуется «чисто внешними» впечатлениями о личности политиков, но, поскольку эти впечатления меняются, устойчивых симпатий у него нет. Так, респонденту нравился Шойгу в качестве министра по чрезвычайным ситуациям, а переход этого деятеля в большую политику его шокировал. К Чубайсу относился «с большой симпатией и с доверием», «потому что очень умный мужик», а сейчас не уверен и в нем, так как не знает, «насколько хорошо или плохо он командует РАО ЕЭС». Кириенко устраивал респондента в качестве премьер-министра, но полностью разочаровал его, когда в ходе компании по выборам московского мэра стал «поливать грязью» Лужкова. В момент интервью «из соображений определенной стабильности и доверия... выбрал бы, пожалуй, пару Примаков с Лужковым». Мотивы: «Примаков ~ профессиональный политик, имеющий колоссальный опыт в этой области, и далеко не глупый мужик». Лужкова респондент как политика не признает и не считает его «очень умным мужиком», имея в виду такие его «деяния», как строительство храма Христа Спасителя и реконструкцию Манежной площади («абсолютная ерунда с точки зрения Москвы, экономики и вообще здравого смысла эти два глобальных московских проекта»). Тем не менее, респондент ценит московского мэра «как профессионала» и думает, что «если бы он стал, скажем, премьером и занимался бы хозяйствованием, а не политикой, то это не худший вариант был бы».
Квалифицированный слесарь и художник-дизайнер, 47 лет, Нижний Новгород. Политикой не интересуется. Социально-экономические взгляды респондента близки к умеренно-либеральным (хотя сам он вряд ли знаком с этим термином). Государство должно, по его мнению, иметь собственность на землю и природные ресурсы, но не на банки и промышленные предприятия. Он против идеи Лужкова, что государство должно взять на свой баланс «лежачие» предприятия («...мы платим налоги, и что, государство из наших денег будет, что ли, это предприятие кормить?»). Респонедент не одобряет перераспределения доходов в пользу неимущих: «...если человек работает, зарабатывает, почему он где-то должен отдавать?» Хотя и признает необходимость какой-то минимальной социальной защиты со стороны государства: «...ну, где-то немного, чуть-чуть должно, конечно, чтоб уж не совсем (оставлять малоимущих без помощи. ~ Г.Д.)». «Западная система нормальная, я считаю... Доход надо чтоб поднялся, и проблемы-то не будет».
Главная функция государства, по мнению респондента, ~ поддержание порядка в обществе («контроль есть ~ и все будет нормально»). Но в ключевые для него понятия порядка, контроля респондент вкладывает демократическое содержание. По его мнению, укрепление власти должно идти по линии усовершенствования демократических институтов: выборности, прозрачности бюджета, «свободы высказывания», которой сегодня нет на уровне предприятий («ну, здесь (очевидно, в беседе с социологом. ~ Г.Д.) вот я могу сказать, а на работе? Там мне сразу скажут ~ гуляй, Вася! Ну, не с первого раза скажут, замену надо искать, так со второго скажут»). Политические симпатии респондента тяготеют к Явлинскому, «Яблоку». Перспективы России он оценивает так: «Порядка у нас не будет. Народ такой. Культуры нет. А если культура повысится, тогда, как на Западе будет».
Женщина-врач, научный работник, 60 лет, Москва. У респондентки крайне негативный взгляд на экономическую и политическую ситуацию в стране при полном отсутствии ностальгии по советским порядкам, уход от которых она оценивает в целом позитивно (плановая экономика ~ «идиотизм»). Политическую же действительность постсоветской России, в представлении респондентки, определяют воровство, коррупция, беспринципная борьба в правящей элите («пауки в банке»), власть бюрократии («страшнее чиновника ничего нет»). Свой политический выбор она, видимо, пытается осуществить на персональной основе, но безуспешно: никому из политиков не симпатизирует. К Явлинскому относится крайне негативно («болтун», быть в оппозиции и «критиковать всех ~ красивая позиция. Вот ты пойди и сделай»). Чубайс «умный, но слишком самонадеянный, не думаю, что он искренне за Россию»; Кириенко «важно себя показать». К Степашину, Путину, Гайдару доверия не испытывает, лучше других относится к Примакову, хотя и не безоговорочно: «...у него какой-то консерватизм, чувствуется социалистическое воспитание», но «он в моих глазах олицетворяет элемент надежности, стабильности» при нем было бы спокойнее».
Политические взгляды респондентки представляют собой странную смесь. Здесь и антикоммунизм, и антизападнический патриотизм (она осуждает «пресмыкательство перед западными товарами» ~ «надо развивать свое, должна быть национальная гордость»), и государственно-патерналистский синдром («государство должно быть опекуном», «все зависит от правительства, а народ ~ каждый на своем месте ~ должен выполнять все, что положено», «государству должна принадлежать крупная промышленность»), и отдельные либеральные идеи (банки, школы, клиники могут быть частными), комплекс национальной неполноценности (у русских нет культуры упорного труда, народный идеал ~ получить хорошую жизнь ~ «по щучьему велению, по моему хотению»). В целом же, она чувствует себя совершенно отчужденной от современной социетальной действительности, а ее личный идеал ~ вообще за пределами каких-либо реально мыслимых общественно-политических сценариев: интеллигентная москвичка хотела бы жить в воображаемом «европейском прошлом веке». Оптимальный путь развития России видит в синтезе лучшего «своего» (духовного богатства, культуры) и западного («взять у них... манеру трудиться, ритм, организацию труда»).
Самозанятый ремесленник-мебельщик, по образованию биофизик, 53 года, Москва. Политикой интересуется мало, что объясняет, в частности, отсутствием надежных источников информации (журналисты, по его мнению, не ориентируются в том, о чем пишут). По взглядам либерал, демократ. В основе государства, считает респондент, должна быть ценность личности. Перемены, произошедшие в стране со времен перестройки, в целом одобряет («раньше была безнадега»). В то же время считает, что процесс перемен растянулся, выродился в какую-то «тягомотину», все надо было бы делать жестче, решительнее, как, например, в Польше (респондент побывал в этой стране).
В экономике главное ~ не мешать естественным процессам, земля должна быть в собственности государства, в остальном соотношение различных форм собственности должно определяться конкретной ситуацией.
Политическую действительность России респондент оценивает крайне негативно: политика сводится, по его мнению, к борьбе амбиций, борющиеся стороны стремятся «протянуть состояние, когда можно что-то оттяпать». Политических симпатий у него нет; Путин ему не нравится, так как пытается действовать с позиций силы. Респондент признается, что не знает, за кого голосовать на выборах.
В основе общественно-политических идеалов московского ремесленника ~ идея общественного договора, компромисса конкурирующих сил. Конкуренция необходима как стимул, но она должна напоминать спортивное состязание, а не борьбу на уничтожение. Государство должно играть роль арбитра, «не давать людям обижать друг друга».
Отвечая на вопрос об оптимальном пути развития России, респондент опровергает правомерность самой альтернативы ~ «свой» или западный путь: важно не цивилизационное определение преобразований, а их качество, эффективность («нужно ставить вопрос: как?»). Будучи глубоко религиозным, православным человеком, он, тем не менее, не принимает теории особой русской духовности («духовность... не имеет географической привязки»). А национальность для него «вообще вещь третьестепенная».
Женщина-стоматолог, помощник врача, 24 года, Санкт-Петербург. Респондентка заявляет, что не интересуется политикой, но эта декларация выражает не столько ее политическую индифферентность, сколько негативное отношение к российским властным институтам и элитам («политики у нас вообще сейчас никакой нет»). В действительности же у нее довольно четкая система политических ценностей и приоритетов. В основе этой системы, судя по всему, принцип эффективности. Ее возмущают пороки ельцинского правления («хуже Ельцина, в принципе, ничего быть не может»), частые смены премьер-министров. Власть президента, по ее мнению, в России чрезмерна, так как несет в себе опасность произвольных необоснованных решений. Но и «парламент такой большой нам не нужен, большинство там ~ бездельники». Власть, по мнению респондентки, следует децентрализовать, передать больше полномочий регионам, приблизив их по статусу к американским штатам. По политическим взглядам она ~ сторонница демократии, но с демократией связывает не определенную систему власти, а, в первую очередь, разумное соотношение общественного порядка с правами и свободами личности («это когда люди живут так, как они хотят, но в то же время, чтобы это не приносило никому неприятностей. Т.е. каждый человек настолько свободен, чтобы его свобода не ущемляла права окружающих. И чтобы все получали тот объем информации, которую бы они хотели услышать. Свобода слова ~ не пустые слова... У нас, по-моему, это есть»). Что же касается собственно власти, то ее в России, по мнению респондентки, следует значительно ужесточить, особенно в сфере правовой системы и деятельности правоохранительных органов, а также налоговой политики.
В отличие от ряда старших респондентов, петербургский стоматолог не противопоставляет резко советские и современные порядки. Она против «шариковского» принципа «поделить между всеми», социалистической уравниловки, но полагает, что «в нашем прошлом, при социализме, была масса неплохих идей... А у нас максимализм какой-то: старое все было плохо. Надо оглянуться назад и что-то оттуда взять». Но и постсоветский период ~ «это тоже хорошо... Мы стали более открытой страной, нас признали в мире, поняли ...что мы такие же люди, как и все остальные ...ты можешь поехать куда угодно, это, конечно, здорово».
Такому взгляду на прошлое и настоящее вполне соответствуют экономические взгляды респондентки, представляющие собой своего рода компромисс между «рыночным» либерализмом и командной ролью государства. «Я думаю, ~ говорит она, ~ что должна быть большая роль государства в управлении экономикой». Но «где-то на 50% промышленность должна быть частной», Сбербанк должен быть государственным, но и частные банки имеют право на существование. Респондентка возмущена современным состоянием системы социального обеспечения в России, особенно в сфере здравоохранения и в пенсионном деле (дороговизна лекарств, низкие зарплаты врачей, пенсии, не обеспечивающие прожиточный минимум), и видимо, эта ситуация прежде всего питает ее «государственнические» взгляды. Но она считает необходимой также и частную медицину.
Петербургский врач ~ за «особый путь»; связывает это с особенностями российской истории и национальной психологии. После 70 лет коммунистического господства, считает она, «не можем мы так быстро стать как Америка ...мы можем стремиться, но как-то более щадящими методами... Мы не такие упертые, как американцы... немножко ленивы, наверное, жесткая карьеристская позиция не для нас». И далее респондентка повторяет расхожие представления об особой душевности русских людей и о большей жесткости западного человека («они не такие люди, как мы»).
Политические симпатии и антипатии респондентки вполне подчинены упомянутому выше приоритету эффективности. Она отрицательно воспринимает и коммунистов, и «Яблоко». «Яблочники», «сколько я себя помню, так ничего и не добились, Явлинский никогда не будет президентом». У правых (респондентка ссылается на телеинтервью Хакамады) хорошие цели, но непонятно, как они могут добиться их осуществления. Симпатии респондентки на стороне Лужкова, поскольку он «хороший хозяйственник». Симпатичен ей также Степашин, потому что «он решил бы вопрос с Чечней». Респондентка вообще категорический противник военных действий в Чечне. и это определяет ее негативное отношение к Путину. «Я его не знаю, ~ говорит она о будущем президенте, ~ не понимаю, что это за человек». То, что он говорит о Чечне, «ни в какие ворота не лезет... он не решит проблему с Чечней».
Учительница-художница, 27 лет, Москва. Последовательная демократка и либерал, в чем, очевидно, сказывается влияние среды (семьи, дружеского круга). Антикоммунистка, жалеет, что компартию не запретили в 1991 году. Демократия для нее означает «свободу выбора в рамках закона, ...как в Америке». Роль государства ~ обеспечить такие условия, «чтобы каждый мог что-то делать». В остальном сфера управления государства ~ это «тюрьмы, суды» и частично образование. Оно должно ~ тоже как в Америке ~ помогать слабым, но не заставлять богатых делиться с бедными. Социальная справедливость, по мнению респондентки, должна состоять не в перераспределении доходов, но в создании равных возможностей для всех.
Молодая московская преподавательница очень интересуется политикой («от этого зависит моя жизнь»), всегда участвует в выборах («я живу в этой стране, хочу, чтобы в ней было лучше»), хотя к российской политической жизни относится без всякого пиетета. Политического лидера в России, считает она, нет ~ «ни хорошего, ни плохого». Для нее, и, как она считает, для народа в целом политика ~ это цирк. Что касается политического выбора респондентки, он не целиком определяется ее идеологической ориентацией. По партийным спискам она голосует за ДВР, но на президентских выборах руководствуется более прагматическими соображениями. Симпатизирует Гайдару («светлая личность»), Немцову, Шойгу, в какой-то мере Степашину, а также и Ельцину, считая его «порядочным человеком с минимальными демократическими устремлениями». Активно не нравится ей Явлинский («только говорит гадости», не имеет собственной позиции). К Чубайсу отношение смешанное (умный, но есть «какая-то жуликоватость»). К Путину вначале относилась недоверчиво из-за его кагэбистского прошлого, но потом лучше, увидев в нем сильного человека, близкого к либералам. Голосование на президентских выборах за демократического кандидата (вроде Гайдара или Немцова) считает бесполезным, одно время готова была голосовать за Лужкова, поскольку он «что-то умеет делать», его любит народ, и он ~ реальная альтернатива Зюганову. Потом, правда, раздумала из-за связи Лужкова с Примаковым, которого считает циником (ее отец в негативном свете описал ей внешнеполитические позиции Примакова в брежневские времена).
В отношении будущего России респондентка настроена скорее оптимистично, а главным препятствием для ее развития считает непрофессионализм власти («мы ничего не умеем делать», «у власти те же люди, что раньше») и низкий уровень сознания народа («народ заслуживает то правительство, которое имеет»).
Менеджер часового предприятия, 27 лет, Нижний Новгород. Политикой интересуется. Основные источники информации: НТВ, «Московский комсомолец», «Аргументы и факты», «Сегодня». Результаты постсоветских преобразований, с одной стороны, оценивает положительно («интереснее стало жить», «каждый может себя реализовать»), но, с другой, сложившуюся систему власти и общую ситуацию в стране описывает в самых черных тонах. Власть коррумпирована: «люди хапают для себя, о народе они не думают. Пустили жизнь на самотек. Так и пошло: они занимаются своим делом, мы своим делом, так и живем пока». Страна «на грани провала, ...практически банкроты... И в итоге жизнь все хуже и хуже становится, ...обнищание у народа началось».
Выход респондент видит в смене власти. «Надо выбрать такого человека, который нужен на данный момент, может быть, не активного политика, а хорошего бизнесмена», молодого, энергичного. В качестве возможных кандидатов респондент называет Брынцалова и Чубайса. На выборах намерен голосовать за «Отечество», так как Лужков ~ «хороший хозяйственник», многого добился в Москве.
Нижегородский менеджер ~ сторонник активного вмешательства государства в экономическую жизнь. Особенно значительной должна быть его роль в деле подъема промышленности, в том числе ВПК, в поддержке «лежащих предприятий» (в этом он согласен с Лужковым). Государство должно сохранять собственность на крупные предприятия («если их продать, то никаких гарантий, что рабочие места будут там сохранены»). Необходима и государственная собственность на сельскохозяйственные земли, без этого, по мнению респондента, невозможно обеспечить страну продовольствием («за счет ферм все равно не прожить, а на своем участке все опять же не вырастить»).
По политическим взглядам нижегородский часовщик ~ сторонник демократии, которую он понимает как свободу слова и «связь власти и жителя страны». Он ~ за сокращение полномочий президента и повышение роли Думы в принятии решений.
Респондент считает невозможным установление в России общества западного типа: «мы россияне, у нас... недостаток культуры. Мы не немцы, у которых педантично все. Бесхозяйственность все равно останется какая-то... Что-то будет похожее (на Запад ~ Г.Д.), но у нас будет российское государство, непохожее на других». В чем конкретно будут состоять особенности этого государства, респондент сказать затрудняется.
Теплофизик, сотрудник института Академии наук, 43 года, Москва. Политикой интересуется. Источники информации ~ НТВ, «Эхо Москвы». Либерал-западник ~ не столько в идеологическом плане (на вопросы общетеоретического порядка о роли государства и тому подобные отвечать затрудняется), сколько по личным жизненным ценностям. «Как человек, близкий к компьютерным делам, ~ объясняет теплофизик, ~ я все-таки исповедую западные ценности». Респондент много бывал за границей: в США, Европе, Израиле и склоняется к выбору американской модели в экономике и в сфере социального обеспечения. Хотя он и считает функцией государства «обеспечение социальной защиты», худшим злом ему кажется любая зависимость от чиновничьего аппарата: «Я не буду тратить время, чтобы получить какие-то деньги, я лучше буду тратить время, чтобы их заработать» Не нравится ему и шведская модель «социального государства», ибо она основана на непомерно высоких налогах. Мои ценности, говорит он, «не государственные».
Респондент не строит никаких иллюзий в отношении российской экономической и политической действительности. «На всем, ~ характеризует он ее, ~ царит некий налет незавершенности». С одной стороны, отсутствие свободы, обусловленное влиянием бюрократии, с другой ~ беспорядок, «отсутствие регулируемости». В экономике ~ бардак, в политике ~ борьба кланов, «броуново движение». Респондент считает, что Россия находится на «латиноамериканской фазе» и, очевидно, надеется, что рано или поздно она эту фазу изживет, сблизится с западными обществами. «Восточный» путь, ~ считает он, ~ это казарма», а что такое свой, особый путь, вообще не понимает.
В политическом плане теплофизик считает себя правым, в свое время участвовал в выдвижении кандидатов в депутаты Мурашова. Однако его политический выбор определяется не столько идеологией или верностью каким-либо политикам и партиям, сколько критериями эффективности и профессионализма. О Зюганове он отзывается не враждебно, а пренебрежительно («дедушка Зюганов ~ это дедушка Зюганов»), смеется над бессмысленностью и стереотипностью его выступлений. Не нравится ему и Волошин, а Думу он считает неэффективной. Зато эффективным ему кажется правительство Путина, главным образом из-за твердой линии в Чечне. Вполне возможно, что этот либерал несколько позже пополнил ряды путинского электората.
Мелкий предприниматель-коммерсант, 29 лет, Москва. Политикой интересуется («от политики зависит моя будущая жизнь»), но на выборах голосует против всех («я не могу проверить то, что они говорят, обещания не выполняются»). По мировоззрению также либерал-западник. Общество должно быть построено, по его мнению, на власти закона и принципе справедливости: «сколько заработал, столько и получай». В то же время респондент ~ сторонник европейской модели социального обеспечения, включающей перераспределение доходов в пользу неимущих. Государство должно заниматься «пенсиями и обороной», в остальном же «чем меньше видно государства, тем лучше» (респондент ссылается на пример Швейцарии).
Российскую действительность коммерсант оценивает в основном в мрачных тонах. Государство отделено от общества, судебная система не работает, в экономической политике нет четкой линии, «не знаем, чего хотим», каждая власть тянет одеяло на себя. Эту ситуацию респондент оценивает с позиций исторического фатализма: она, по его мнению, неизбежный результат хода истории, сегодня в ней ничего изменить нельзя. Но этот фатализм оптимистичен: респондент верит в будущее России, которое обеспечивают ее природные и человеческие ресурсы. Оптимальный путь ее развития, по его мнению, капитализм, но не «не облагороженный», как теперь, а близкий к западному. У Запада надо учиться, брать лучшее, но не просто пытаться бездумно копировать. Важно сформировать в русском обществе достоинство человеческой личности, сделать жизнь человека достойной. В то же время респонденту, по происхождению сельскому жителю, хотелось бы сохранить своеобразие русского характера: доброту, задушевность в отношениях между людьми («на Западе нет таких задушевных отношений, вообще отношений между людьми нет, все знают свои права, и все»).
Женщина-менеджер продуктового магазина, 34 года, Санкт-Петербург. Все, что происходит в политической жизни, воспринимает крайне негативно: «...никакого государства не наблюдается, управляющей руки не видно», в политике господствует коррупция и борьба криминальных группировок, президенту пора на пенсию. В сложившейся ситуации респондентка винит не только политиков: «Мы все виноваты из-за своей пассивности». По политическим взглядам она ~ сторонница демократии, которую определяет формулой «максимум прав, максимум обязанностей», считает необходимой «отчетность политиков».
Главная функция государства, по мнению респондентки, ~ забота о людях, обеспечение «здравоохранения, нормальной еды, нормальной учебы». Оптимальная модель ~ шведская. Считает себя близкой к левым. Но к «действительно левым, а не с правым уклоном». Однако шкалу «левые-правые» респондентка понимает иначе, чем это принято в российском политическом языке. «Не ЛДПР и не Зюганов ~ это точно», ~ говорит она о своих политических предпочтениях, симпатизирует же Кириенко, Немцову, Явлинскому, т.е. левые для нее ~ это демократы. В целом петербургская торговая служащая чувствует себя политически предельно дезориентированной, беспомощной в политическом выборе. Она уверена, что нужно «сменить людей», но не знает, за кого голосовать на выборах.
Заведующая отделом медицинского научно-исследовательского Института, 60 лет, Москва. Считает себя «политизированной до ужаса» и, в то же время, политически плохо информированной: по газетам разобраться в происходящем невозможно, в них преобладают обличения, всяческая грязь. Умеренный либерал: считает, что от государственного регулирования надо было отказываться постепенно, что Россия в настоящее время не готова к демократии. В образовании и здравоохранении, по мнению респондентки, должны сосуществовать государственный и частный сектора, социальное обеспечение должно частично опираться на государственное финансирование России, считает она, стоит ориентироваться на Запад, но перенимать западный опыт без спешки, создавая для этого соответствующую базу.
Сделать политический выбор респондентка явно затрудняется. Ибо не видит среди политиков «умных людей, радеющих о государстве». На президентских выборах голосовала за Ельцина, на парламентских ~ за «Яблоко», но потом разочаровалась в этом движении. Чубайсу перестала верить после приватизации. Гайдар ей нравится, хотя она и считает, что он поторопился со своими реформами. На парламентских выборах собиралась было голосовать за «Отечество», но после того, как ей активно не понравилось «популистское» выступление Лужкова по телевидению, раздумала. Теперь склоняется к голосованию за СПС, но окончательно еще не решила.
Научный работник-эколог, 29 лет, Санкт-Петербург. Сторонник развития рыночной экономики при сохранении решающей роли государства в сфере социального обеспечения, бесплатного образования (в том числе высшего), а также при снижении налогов для стимулирования экономического роста. В собственности государства должны оставаться только стратегические объекты (например, космодромы), оно не должно субсидировать «лежащие предприятия». За основу российской трансформации надо брать западный опыт, но не копировать его, так как это все равно не получится из-за особенностей российского менталитета. Правда, респондент полагает, что его своеобразие невелико и сводится в основном к терпению, готовности работать за малую зарплату. Западноевропейский опыт, считает респондент, ближе России, чем североамериканский.
Респондент интересуется политикой, но уровень информации его не удовлетворяет, что он связывает с отсутствием независимых СМИ. Недостатками российской политики считает дефицит в этой сфере честных людей, непредставительность выборных органов, некомпетентность и безнаказанность высших лиц. Политически респондент локализует себя «чуть правее центра», но из политиков никого не любит Хуже всех считает коммунистов и Жириновского. К правым (Гайдару, Чубайсу, Кириенко, Немцову) относится тоже отрицательно, хотя и считает, что либеральные реформаторы в свое время сыграли положительную роль («в тот период лучше было сделать что-то, чем ничего не делать»). Ближе других ему ОВР (но не Лужков и Примаков лично), «Яблоко» (Явлинский «внушает уважение», хотя и «бывает неадекватен»), Путин. Респонденту нравится петербургский губернатор Яковлев (он «занимается делом», улучшил положение в городе). Путин, по его мнению, хорошо действует в Чечне, но неясно, какой будет его экономическая и внутренняя политика. По-видимому, в момент интервью эколог не исключал для себя голосование за Путина на президентских выборах.
Респондент считает, что основы российского кризиса были заложены в советское время, а в отношении будущего страны настроен оптимистично («ситуация переломится, мы еще будем великой страной»).
Финансовый директор финансово-промышленного комплекса, 28 лет, Нижний Новгород. Отношение и интерес к политике у этого молодого преуспевающего менеджера ~ сугубо прагматическое: «насколько она (политика) касается меня лично». Постсоветские реформы и современную политическую ситуацию, систему власти оценивает крайне негативно. «Я не считаю, ~ говорит он, ~ что был произведен ряд каких-то последовательных действий по преобразованиям. На самом деле то, что происходило, ~ это...метания. Да ~ мы хотим жить как все; да ~ мы хотим зарабатывать деньги, а курса никакого, а реформ никаких. Руководство занимается собой ...заботится о себе. А не о стране... Наш государственный аппарат работает сам на себя».
Респондент считает себя «умеренным либералом», но никому из российских политиков и политических течений не симпатизирует. Эту позицию он сам объясняет тем, что хочет сохранить самостоятельность суждений. В то же время ему «импонируют взгляды некоторых политических лидеров, того же Жириновского», «я его чувства в чем-то разделяю, хотя далеко не во всем». Какие именно чувства лидера ЛДПР разделяет респондент, возможно, видно из того, что он мечтает о восстановлении России в статусе сверхдержавы. Правда, не путем раздувания военной мощи, а на основе подъема экономики.
Выход страны из экономического и политического кризиса нижегородский менеджер видит прежде всего в «приходе к власти сильного лидера», «связанного не только с аппаратом, но связанного со страной. И это будет либо силовик, чего бы очень не хотелось», либо представитель финансовой олигархии. Но такой, которая «работает для национальной экономики». Респондент предпочел бы «идти через демократию», но такую, которую «должны представлять олигархические группы», т.е., очевидно, олигархическое правление крупного капитала при сохранении демократических институтов и свобод. Авторитарный путь осуществится в случае прихода к власти «силовика», но и в том, и в другом случае «будет лучше, чем сейчас. Вопрос в том, как мы сами это (авторитарные порядки ~ Г.Д.) перенесем». Т.е. авторитаризм был бы для него дискомфортен, но он допускает возможность авторитарного пути по прагматическим соображениям.
Либерализм респондента проявляется, главным образом, в экономической сфере. Он против государственной собственности на предприятия, непосредственного вмешательства государства в управление экономикой. И за активную роль государства в сфере социальной защиты: «Обеспечение тех, кто находится в низших слоях общества, ~ это святая обязанность государства».
Будучи «экономическим либералом», нижегородский менеджер отнюдь не является западником. По его мнению, Россия неизбежно пойдет своим путем, в котором воплотятся русский «размах», широта души. Респондент верит, что, поскольку «русский долго запрягает, но быстро ездит», Россия сможет осуществить свое собственное «экономическое чудо», подобно Японии или Южной Корее, выйти, как они, «на высочайший уровень технологии».
Заведующая отделом кадров научно-исследовательского института, по совместительству агент туристической фирмы и самозанятый торговый посредник, 46 лет, Нижний Новгород. Настроена резко враждебно по отношению к существующей власти, живущей по принципу вседозволенности и обворовывающей народ, к рыночным и демократическим реформам. В постсоветской России ее больше всего возмущает падение морали: «...стали критерии материальные для всех, а не моральные. Люди перешагивают через других, зверства, убийства. Кто-то ничего не имеет, а кто-то слишком».
Респондентка называет себя консерватором. В идейно-политическом плане ей близки коммунисты («они устраивают меня больше, чем другие»), «Духовное наследие», «Трудовая Россия». Она осуждает приватизацию крупных предприятий, отказ от централизованного планирования и государственного руководства экономикой. Путь к подъему национального производства видит в запрете импорта. Социальное обеспечение, считает респондентка, должно быть таким, как в советское время. Наиболее важный приоритет России ~ «не попасть в зависимость от Америки», экономическую, моральную, психологическую». В общем, страну «нужно вернуть хотя бы в те рамки 80-х годов, пусть говорят, что это застой и прочее, все равно была целостная Россия, СССР... При коммунистах был все-таки порядок. Люди привыкли жить в каких-то рамках определенных и не вылезать никуда».
Столь же однозначен и политический идеал респондентки. Власть должна, по ее мнению, быть авторитарной, для русского народа лучше такой режим, чем демократия. Демократия, которую она понимает как «свободу слова, действия, поступков, ...все испортила». Регионы должны подчиняться центру, национальные республики, особенно мусульманские, надо «держать в рамках».
Весьма, казалось бы, жесткий и целостный государственно-социалистический и великодержавно-националистический консерватизм респондентки разбавляется, однако, неожиданными рыночно-реформаторскими примесями. Так, поддерживая КПРФ и Ампилова, она в то же время симпатизирует Явлинскому («он тоже умный политик, хотя нечетко свою линию ведет»). Нам нужен, говорит она далее, молодой реформатор, кто-то должен изменить все, повернуть на 100%. А среди задач государства она называет...поддержку предпринимательства!
В этой странной смеси, очевидно, проявляется двойственное положение респондентки: одной ногой она стоит в традиционном государственном секторе, а другой ~ в частном, где-то между «старым» и «новым» средним классом (напомним, что она не только подрабатывает на рынке туристических и коммерческих услуг, но и собирается основать собственное малое предприятие). И образ жизни ее тоже не традиционный, завкадрами была с дочерью в Турции, два раза ездила в Арабские Эмираты. Но дело не только в этом. Ностальгируя по социализму («мы зря начали строить капитализм, не достроив социализм»), респондентка, как выясняется, вовсе не является принципиальным противником капитализма. Просто, считает она, Россия до капитализма не доросла: «Общий уровень цивилизации у нас ниже, чем на Западе... у нас так много необразованных районов, забитых... русский человек мыслит по-другому... Сейчас мы можем только на страны третьего мира равняться... Лучше давайте поживем скромнее... Мы как бы перепрегнули, мы могли к этому (западному уровню ~ Г.Д.) подойти».
Получается, что «социалистическая» ностальгия служащей из Нижнего Новгорода связана с комплексом национальной неполноценности, с принципом «по одежке протягивай ножки». Равнение на «третий мир» ~ это своего рода социетальный хабитус, занижение цивилизационных притязаний, воспитанное в русском сознании вековой отсталостью, мало обнадеживающим опытом «догоняющего развития». Не в этом ли социально-психологическая природа выбора «особого пути», столь распространенного в российском социуме?
* * *
Данные наших интервью в целом подтверждают ту общую картину общественно-политических представлений и взглядов людей среднего класса, которую рисуют репрезентативные социологические опросы. В то же время они наводят на некоторые размышления по поводу психологической природы и структуры этих взглядов и представлений, их «качества» и последовательности, уровня их гомогенности и гетерогенности. Здесь следует еще раз напомнить, что наши респонденты принадлежат к наиболее адаптированной практически ~ и особенно психологически ~ части среднего класса («оптимистам») и уже поэтому отличаются по своим общественно-политическим позициям от остальной, неадаптированной его части. В то же время они обнаруживают определенную типологическую общность этих позиций в рамках данной, наиболее адаптированной группы. Эта общность (хотя, как мы только что видели, не абсолютная) выражается, прежде всего, в позитивном восприятии определенного аспекта перемен, происходящих в стране после крушения государственного социализма. Этот аспект ~ переход от общества, жестко и принудительно регламентирующего жизнедеятельность своих членов, к обществу более свободному, в принципе открывшему человеку возможности самостоятельного выбора и самоопределения в разных сферах его жизни.
У большинства наших респондентов индивидуальная самостоятельность и самореализация принадлежат к числу важнейших личных ценностей, а систему аспираций характеризует стремление к росту ~ будь то рост материального статуса, творческий профессиональный успех или постоянное обновление форм жизненной активности. Проецируясь на социетальный уровень, эти ценности осмысливаются или переживаются эмоционально как ценность свободы. Как мы видели, в одних случаях эта ценность, вписываясь в структуру интериоризированной человеком либеральной субкульутры, закладывается в основу его политических позиций, порождая подчас конформное отношение к социетальной действительности. В других случаях человек вообще отрицает вербально реальность каких-либо позитивных преобразований, но, в сущности, выражает свое приятие их и своей жизненной практикой, и спонтанным политическим выбором. При всем разнообразии своих политических симпатий и предпочтений наши респонденты, как правило, отвергают политические силы ~ прежде всего коммунистов, часто «либерал-демократов» Жириновского, идентифицируемых с угрозой свободе.
Либеральный этос большинства наших респондентов далеко не исчерпывается значением для них свободы как принципа индивидуальной жизни и институционального устройства общества. Еще один характерный признак данного этоса ~ неприятие национализма в тех его конкретных проявлениях, которые характерны для России конца ХХ века. В ходе интервью респондентов спрашивали, как они относятся к антисемитским высказываниям генерала Макашова, бывшим в то время на слуху; у всех они вызывали осуждение в разных формах: от крайнего возмущения до выражения пренебрежительного отношения к генералу («Макашов ~ это анекдот»). Ответы на вопрос по поводу «лиц кавказской национальности» были менее единодушными: если большинство респондентов заявляли, что им безразлична национальность людей, с которыми они общаются, то часть их продемонстрировала своего рода бытовой национализм ~ раздражение из-за господства азербайджанцев и других «кавказцев» на рынках или в связи с деятельностью этнических мафий. Правда, и такие респонденты обычно спешили оговориться, поясняя, что эти настроения у них возникают лишь спорадически и что нельзя судить об этносе по его отдельным представителям. И осуждали какие-либо административные меры против «инородцев», вроде высылки кавказцев из российских городов.
Вот как звучит, например, одно из наиболее «националистических» высказываний, принадлежащее нижегородскому рабочему. Отвечая на вопрос: «Согласны ли Вы с лозунгом «Россия для русских»?», он говорит: «С одной стороны, да, но не знаю, как (т.е. в какой степени. ~ Г.Д.) жестко ставить этот вопрос. Вот если преступных элементов убрать, это да, своих хватает. А людей гонять не к чему... В целом их (кавказцев. ~ Г.Д.) я не люблю. Лучше еврей, чем армянин. Хотя у них тоже разные люди есть. Так что даже трудно сказать, националист я или нет».
Довольно единодушными были и суждения респондентов по вопросу о приоритетах внешней политики России. Чувство ущемленной национальной гордости, сожаление об утраченном статусе России на мировой арене (или о плачевном положении российской науки, промышленности, засилье импортной продукции и т.п.), надежда на его восстановление в будущем ~ все эти мотивы присутствовали во многих интервью, однако никто из наших собеседников не видит пути к такому восстановлению в конфронтационной политике отстаивания геополитических интересов России, прокламируемой национал-«патриотическими» течениями. Правда, один из респондентов полагает необходимым, в первую очередь, восстановление «статуса державы», но и он видит в этом не самоцель, а путь к расширению российского экспорта при условии, что у нас «хорошая продукция будет». Чаще же геополитические приоритеты и великодержавные амбиции жестко отвергаются, и на первое место ставятся интересы внутреннего, прежде всего экономического развития страны. «Когда мне говорят, что у России есть некие интересы на Балканах или еще где, ~ говорит московский ученый, ~ я этого не понимаю... Я понимаю, что всякое государство имеет какие-то связи с другими государствами... Наверное, выделять какие-то особые интересы можно было в свое время при наличии колониальной системы. Можно было говорить, что у Британии есть интересы в Индии, а сейчас, при деколонизации, я не понимаю, что такое геополитические интересы». А, по словам нижегородского менеджера, «пока мы не обратим взгляд внутрь себя, мы не сможем стать равноценным партнером на внешнем рынке, о чем нам все...дают понять. И глупо сейчас угрожать боеголовками, если у нас, того и гляди, бомба может внутри взорваться».
В целом либеральными ~ во всяком случае, на уровне нормативных, вербально выражаемых установок ~ являются и позиции респондентов по отношению к роли закона в жизни общества. Их высказывания по этому поводу звучат как конвенциональные расхожие истины и повторяются в весьма сходных выражениях во многих интервью: законы надо соблюдать, я человек законопослушный, платить налоги ~ дело святое и т.д. и т.п. В то же время многие участники интервью ~ в особенности те, кто так или иначе связан со сферой бизнеса, ~ признают невозможность реального выполнения этих норм в сегодняшних российских условиях. Ее объясняют или качеством законов (их противоречивостью, существующими в них пробелами и т.д.), или тем, что законы практически не работают из-за их несоблюдения теми, кто должен контролировать их исполнение: властными структурами, правоохранительными органами, из-за произвола и коррумпированности чиновников.
Этими пунктами общность общественно-политических позиций людей среднего класса, представленных в наших интервью, пожалуй, в основном исчерпывается. Правда, большую их часть объединяет еще общий демократический идеал, но в их сознании он представлен скорее как негатив отвергаемой ими авторитарной диктатуры, чем как конкретный образ демократического политического устройства. Разные респонденты акцентируют различные аспекты демократии: одни ~ выборность органов власти, другие ~ власть закона, третьи ~ демократические свободы, достоинство, права и обязанности личности, некоторые говорят о подчиненности власти обществу. Этот разнобой, по-видимому, не сводится к различиям в нюансах, за которыми стоит пусть не до конца осознанная, не формулируемая отчетливо, имплицитная, но все же имеющая некий единый смысл идеальная модель политического устройства. Если бы это было так, респонденты сходным образом определяли бы отношение такой модели к реальной российской политической действительности. Этого, однако, не происходит: часть наших собеседников полагает, что российский политический строй является вполне демократическим, другие категорически это отрицают или даже сомневаются в возможности приближения России к демократическому устройству в обозримом будущем. Некоторые сводят проблему демократизации к корректировке действующей Конституции: расширению полномочий парламента и сужению прерогатив президента.
Российский исследователь В. Петухов полагает, что «у россиян существует вполне адекватное видение нормативной модели демократии и ее основных черт». В доказательство он приводит данные социологического опроса, в ходе которого респонденты должны были выбрать из двадцати названных в анкете признаков демократии те, которые они считают «абсолютно необходимыми» для ее реального функционирования. Доказательство представляется довольно слабым. Во-первых, потому, что использованная технология исследования позволяет судить о «видении демократии», которое существует у социологов, составлявших анкету, но не у респондентов. Последние не формулировали каких-либо взглядов самостоятельно и лишь выбирали одну или несколько предложенных им «подсказок». Во-вторых, только одна из этих «подсказок» ~ «равенство перед законом» ~ была выбрана большинством респондентов, а, скажем, такие признаки демократии, как «свободные выборы власти» или «возможность свободно высказывать свои политические взгляды» выделили соответственно лишь 39% и 37% опрошенных [46, с., 3, 11]. В этом контексте вывод об адекватном видении демократии россиянами, формируемый без каких-либо оговорок и ограничений, выглядит, по меньшей мере, чересчур смелым. Я полагаю, что спонтанные ответы людей на вопросы, не содержащие как в наших интервью, каких-либо подсказок, дают более верное отражение их взглядов.
Разумеется, было бы наивным ожидать, что рядовые респонденты, не являющиеся политиками или политологами, могут сформулировать какие-либо развернутые, продуманные концепции по такой сложной, вызывающей острые научные дискуссии проблеме, как понимание демократии. Важно другое: разноголосица и часто неуверенность, зыбкость суждений как о сути демократии, так и об ее наличии или отсутствии в российском обществе свидетельствует о том, что, несомненно, присутствующая в сознании наших респондентов ценность демократии представляет собой довольно туманную абстракцию. Эта ценность не приобрела еще, если использовать терминологию С. Московиси, качества социального представления, в рамках которого происходит трансформация абстрактного в конкретное. А это весьма ограничивает возможность «материализации» демократического идеала в политические потребности, ожидания и требования, и, тем самым, в практическое политическое поведение людей.
Для полноты картины необходимо также отметить, что заметное меньшинство среднего класса, в том числе его «новых» слоев, вообще отвергает демократический сценарий развития России и предпочитает ему традиционный авторитарный. Такую позицию, например, заняли 15% опрошенных нами летом 2000 года предпринимателей и менеджеров (в основном частного сектора).
Гетерогенность политических представлений среднего класса особенно рельефно проявляется в его ответах на вопрос о роли государства в экономике. Несомненно, суждения по этому вопросу отражают не только влияние абстрактных идеологем, распространяемых сторонниками и критиками либеральных реформ, но и конкретный опыт либерализации экономики (приватизация, свободные цены), испытанный российским обществом в 1990-х годах. Тем более примечательно, насколько по-разному оценивается этот опыт участниками наших интервью. Одни разделяют позиции радикального экономического либерализма, осуждая любое активное вмешательство государства в экономические процессы и ограничивая его роль установлением цивилизованных «правил игры» и контролем за их выполнением. Такая позиция наиболее типична для собственников предприятий, менеджеров частного сектора и самозанятых, но ее поддерживает и часть наемных работников, например, рабочий крупного завода в Нижнем Новгороде. Другие считают, что государство должно сохранять руководство развитием экономики и собственность на естественные монополии или даже на всю крупную промышленность и кредитно-финансовые учреждения.
В ходе проведенного нами опроса предпринимателей и менеджеров, проходивших стажировку в Западной Европе по программе ТАСИС, только около 30% респондентов высказались за либеральный сценарий, остальные считали, что необходимо активное вмешательство государства в экономику. При этом они имели в виду главным образом такие его формы, как государственная собственность на естественные монополии и базовые отрасли промышленности, субсидирование предприятий и ~ значительно реже ~ планирование. Правда, по мнению большинства, это вмешательство должно осуществляться путем применения экономических рычагов, лишь немногие считают необходимыми также и административно-приказные методы госрегулирования. Один респондент предложил применять либеральный сценарий по отношению к средним и мелким предприятиям, а крупное производство подчинить государственному управлению. Похоже, даже в «новом» среднем классе, в предпринимательской и менеджерской среде, идея полного разгосударствления экономики встречает только ограниченную поддержку.
Очевидно, что на распространенности в среднем классе экономического этатизма в какой-то мере сказывается консерватизм мышления, страх перед разрушительными последствиями слишком резких перемен, утраты государственной «крыши». О том, что необходим более постепенный ~ по сравнению с заданными либеральными реформаторами темпами ~ переход к рынку, говорили многие наши респонденты. Несомненно и другое: представители среднего и малого бизнеса могут быть заинтересованы в сохранении госсобственности на базовые отрасли по вполне прагматическим соображениям ~ они полагают, что в этом случае государство будет ограничивать рост цен на энергоносители, сырье и транспортные услуги, сокращая тем самым издержки производства в остальных отраслях. В общем, этатистский консерватизм отражает как своего рода комплекс слабости российского малого и среднего бизнеса, так и трудности адаптации всей массы населения, в том числе и среднего класса, к постсоветским экономическим условиям: хотя бы частичное сохранение регулирующей роли государства рассматривается как минимальная гарантия от нестабильности, экономической разрухи и хаоса, характеризующих начальный этап перехода к рынку. И, вместе с тем, многие люди, способные к серьезной рефлексии по поводу судеб национальной экономики, считают, что без активного вмешательства государства, на основе одной лишь рыночной стихии, вряд ли удастся преодолеть все эти кризисные явления.
Престиж экономического либерализма снижает, как это ни парадоксально звучит, также и низкая оценка эффективности российского государства, неверие в его способность выполнить возложенные на него функции в условиях действительно свободной рыночной экономики. Коль скоро такие явления, как коррупция бюрократии, ее некомпетентность и произвол, пока непреодолимы, лучше сохранить за ней какую-то ответственность за управление экономикой, чем полностью освободить от нее: это хоть как-то ограничит ее эгоизм и корыстолюбие. Примерно так рассуждает, например, один из респондентов нашего опроса ~ исполнительный директор частного коммерческого предприятия, считающий необходимым применение как экономических, так и административно-приказных методов госрегулирования. «Если бы было возможно, ~ пишет он на бланке анкеты, ~ обеспечить контроль за исполнением законов, «правил игры», либеральный сценарий был бы оптимален, но не думаю, что это возможно в скором времени».
Подытоживая данные о взглядах людей среднего класса на проблему соотношения свободного рынка и государственного регулирования, можно, во-первых, констатировать значительную трудность «освоения» ими этой проблемы, соотнесения того или иного сценария как со своими собственными групповыми интересами, так и с интересами национальной экономики. В большой мере проблема принадлежит в их сознании к той сфере «когнитивного вакуума», о которой уже шла речь выше. Отсюда колебания и расхождения в мнениях, с которыми мы встречаемся в данной социальной среде.
Во-вторых, если говорить о соотношении различных позиций, можно заметить, что в своем большинстве люди среднего класса, в том числе относящиеся к его «новым» слоям, склоняются к решениям, предполагающим то или иное сочетание рыночных механизмов с активным государственным регулированием, осуществляемым, главным образом, неадминистративными, экономическими методами. Этот сценарий, даже если он отчетливо не формулируется, близок к «дирижизму», характерному для ряда стран Западной Европы в первые послевоенные десятилетия. Так что и в этом отношении люди среднего класса более восприимчивы, условно говоря, к европейскому, чем к американскому, примеру.
Сходным образом обстоит дело и с позициями респондентов по проблеме социальных функций государства. При всем разнообразии точек зрения, которое мы встречаем в интервью, лишь меньшинство высказывает чисто «либеральную» позицию (государство должно гарантировать помощь только «слабым» ~ инвалидам, старикам и т.д.), и еще меньше ~ реставраторско-«социалистическую» (государственные гарантии рабочего места, бесплатной медицины, среднего и высшего образования и т.д.). Большинство же предпочитает промежуточную ~ «европейскую» ~ модель: сочетание государственных гарантий минимальной социальной защиты для всех граждан со свободным выбором ими тех ее форм, которые превосходят этот минимум, например, бесплатных и платных медицинских услуг, школ и т.д. Даже наиболее состоятельные респонденты считают необходимым перераспределение частных доходов в пользу неимущих.
В целом разноречивые суждения наших собеседников дают довольно мало оснований для «приписывания» им окончательно сложившихся и последовательных идейно-политических ориентаций. Исключение, возможно, составляют сторонники крайних позиций ~ последовательные или «чистые» либералы, с одной стороны, и те, кто хотел бы возврата к «реальному социализму», ~ с другой. Хотя во взглядах даже таких людей встречаются, как мы видели, заметные «посторонние примеси». Что же касается чуждого крайностей большинства, то в каждом индивидуальном случае мы встречаем своеобразный комплекс либеральных и «государственнических», демократических, элитарных и авторитарных представлений. Не особенно четкой является и разделительная линия между «западниками» и «почвенниками», ибо выбор в пользу той или иной альтернативы, в сущности, асимметричен, осуществляется на разных основаниях. Если «западники» ~ это, в общем, сторонники определенного экономического и политического строя (рынка, демократии), то во взглядах «почвенников» отсутствует какая-либо явная альтернатива западной модели: они либо считают ее неосуществимой в силу особенностей национальной психологии и культуры, либо опасаются утраты этих особенностей (духовности, душевности) в случае выбора западного пути. При этом они вовсе не отвергают необходимость использования тех или иных позитивных сторон западного опыта. Можно полагать, что за выбором «своего пути» стоит, с одной стороны, признание необходимости большей, чем на Западе, роли государства и авторитарных методов в экономике и политике, а с другой ~ отказ от приписываемой Западу жесткой подчиненности человека рациональной нормативной системе и императиву эффективности. Но о таких мотивах можно лишь догадываться: они редко осознаются и формулируются сколько-нибудь ясно. В общем, позиция почвенников ~ скорее «против», чем «за». «Западническому» идеалу противопоставляется не иной идеал, а лишь сомнения в том, возможно ли ~ да и нужно ли ~ следовать западному пути.
Каким образом разнородные взгляды людей среднего класса влияют на их конкретный политический выбор, поддержку ими тех или иных российских идейно-политических течений? Выше уже говорилось об отторжении подавляющим большинством респондентов политического и экономического консерватизма, воплощаемого КПРФ и национал-«патриотической» оппозицией. В этом отражается модернизаторско-реформаторская ориентация их сознания, и можно утверждать, что выбор в пользу некоммунистической части политического спектра носит достаточно глубокий ценностно-идеологический характер. То же можно сказать и об отторжении ими откровенного великодержавного национализма, и авторитаризма, представленного Жириновским и его партией. Характерно, что даже те немногочисленные респонденты, которые все же поддерживают КПРФ или «частично» соглашаются с Жириновским, тоже не являются абсолютными экономическими и политическими консерваторами.
В основном политические ориентации наших респондентов локализуются, если использовать весьма неадекватную, но общепризнанную терминологию, в право-центристском политическом пространстве. В пределах же этого пространства их выбор в большинстве случаев отличается неуверенностью, неустойчивостью, отсутствием каких-либо принципиальных ценностных, идеологических мотивов. Столь же мало этот выбор связан и с идентификацией политических предпочтений, с какими-либо социально-групповыми интересами.
Одна из причин этой ситуации очевидна. Она состоит в общеизвестной аморфности, слабой дифференцированности идейно-политического облика и программных целей большинства российских партий. Об этих их особенностях, как и об отчужденности партий от каких-либо общественных нужд и интересов, весьма выразительно говорят некоторые из наших респондентов, объясняя таким образом трудность или невозможность для себя выбора «своей» партии.
Существует, однако, и другая причина такого рода трудностей, коренящаяся в структуре сознания самих людей среднего класса, в амбивалентности восприятия ими российской политической действительности. С одной стороны, они, как отмечалось, в подавляющем большинстве позитивно воспринимают вектор перемен, произошедших в стране в результате краха советского строя, ~ экономическую, политическую и культурную либерализацию. С другой стороны, их глубоко не удовлетворяет, а многих возмущает, большая часть конкретных результатов этой либерализации ~ состояние экономики, социально-экономические и политические отношения, международный статус ельцинской России. Эта абмивалентность объясняется не какими-либо интеллектуально-психологическими свойствами людей среднего класса, но разрывом между теми общественными ожиданиями, которые пробудила либерализация и ее официально декларируемые цели («идея была хороша», как выразился один из респондентов), и реальными последствиями вызванных ею процессов. У многих представителей среднего класса разочарование в результатах перемен не уничтожило возлагавшихся на них ожиданий; то и другое сосуществует в их сознании, определяя их амбивалентное отношение к существующим политическим институтам: они одновременно и осуждаются, и воспринимаются как потенциальные агенты будущих позитивных сдвигов. Такие люди и группы не образуют ни оппозиции, ни базы поддержки институтов власти, или, что примерно то же самое, представляют собой одновременно и то, и другое. Для них естественны колебания между «партиями власти» и оппозиционным «Яблоком», переход от голосования за Ельцина к поддержке кандидатуры Примакова или Лужкова, а затем ~ Путина.
От подобной противоречивости свободны лишь те немногие наши респонденты, которые жестко идентифицировали свой идейно-политический выбор с определенными политическими силами (либералы ~ с СПС, ДВР; консерваторы ~ с КПРФ) и имеют, соответственно, конформистские или последовательно оппозиционные ориентации. Остальные сталкиваются с весьма сложной, в сущности когнитивной, проблемой: как в многоцветье «центристских» партий и деятелей выбрать тех, кто более других способен совместить адекватную их воззрениям меру поддержки позитивных перемен с борьбой против их негативных аспектов. Решить эту проблему, исходя из деклараций и действий политиков, практически невозможно, поэтому выбор у большинства наших респондентов приобретает персонифицированный характер, его критерием становятся не идеи и программы, но уровень доверия, которое внушают политические лидеры, а точнее ~ субъективные впечатления от их имиджа, транслируемого средствами массовой информации.
Способ, которым определяется этот уровень доверия, столь же амбивалентен, как и общие политические ориентации респондентов, и питается, в свою очередь, амбивалентностью мотивов оппозиции институтам власти. Лидер-избранник должен отличаться, прежде всего, волей и способностью преодолеть пороки российской действительности, решить ее наиболее острые проблемы. Но в попытках понять и объяснить, насколько власть ответственна за эти пороки, переплетаются, не особенно четко дифференцируясь, два типа мотивов. Одни апеллируют к самой природе власти как своекорыстной, коррумпированной, чуждой нуждам и интересам рядовых граждан. Такого рода мотивы оппозиционности, нередко символизируемые понятиями власти бюрократии или олигархии, носят по преимуществу социально-этический характер: власть плоха потому, что она безнравственна и представляет собой противостоящую остальному обществу деструктивную социальную силу. Другим мотивом оппозиционности является непрофессионализм власти, ее неспособность выдвинуть и особенно реализовать значимые общественные цели, прежде всего ~ восстановить элементарный порядок в обществе, деинституционализированном и погруженном в хаос.
Эта двойная амбивалентность ~ противоречивое сочетание ценностных (либеральных) и реалистически-критических (оценка реальной действительности), социально-этических и прагматических компонентов политического сознания среднего класса ~ усугубляет его атомизацию, дезориентацию, препятствует его консолидации на основе определенных политических позиций. Это наглядно видно на примере диаметрально противоположного отношения представителей одних и тех же профессиональных слоев среднего класса к одним и тем же, персонифицирующим их политических выбор, деятелям. Ельцин одновременно одобряется как «демократ» и отвергается и как недееспособный президент, и как предполагаемый глава коррумпированной «семьи». Явлинский расценивается и как честный, принципиальный политик-интеллектуал, и как безответственный болтун-критикан, неспособный к конструктивной деятельности. Чубайса ненавидят как автора грабительской приватизации и ваучеризации и уважают как эффективного волевого лидера или как реформатора-либерала.
Можно предположить, что вся эта пестрая смесь питается тем стилем и уровнем политической информации и анализа, который господствует в российских СМИ, прежде всего в аудиовизуальных. Ведь они являются для людей среднего класса, как и для всех россиян, главным, если не единственным, источником политических знаний. Но немалое воздействие на дифференциацию мотивов политического выбора оказывает и собственный социальный опыт людей. В этом отношении показательно, что, если судить по нашим респондентам, наиболее значимым фактором («независимой переменной»), воздействующим на мотивы политического выбора, является их генерационная принадлежность.
Для либерально ориентированных респондентов старшего и, в значительной мере, среднего возраста центральным событием их политического опыта было освобождение от коммунистической диктатуры, двоемыслия и лжи, характеризовавших советский образ жизни; поэтому идеологические и социально-нравственные критерии играют существенную роль в их политическом выборе. Респонденты моложе 30 лет склонны оценивать современную им политическую действительность, исходя из ее собственных качеств, безотносительно к прошлому. Наиболее отрицательным из таких качеств им представляется неэффективность и низкий профессиональный уровень политического руководства, поэтому идеологические критерии отходят у них на задний план, а на передний выступает более прагматический подход. С точки зрения этого подхода, молодые либералы могут предпочитать демократическим лидерам «хороших хозяйственников» ~ Лужкова, петербургского мэра Яковлева, а Чубайс и Брынцалов, рассматриваемые в равной мере как энергичные, «крутые» менеджеры, оцениваются одним из респондентов как одинаково подходящие кандидаты в президенты России.
Судя по многим данным, подобный деидеологизированный прагматизм или «менеджериальный» подход к политике в конце 1990-х ~ начале 2000-х значительно усиливается в мотивации российского электората. Этим-то (среди прочих причин, о которых речь шла выше) объясняется «феномен Путина».
СРЕДНИЙ КЛАСС КАК СОЦИАЛЬНЫЙ АКТОР: ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ПОТЕНЦИИ
Изложенные соображения позволяют подойти к ответу на поставленный выше вопрос об уровне конфликтности среднего класса с существующей в современной России системой власти. С точки зрения объективного анализа, основы такой конфликтности, причем довольно острой, налицо. Если, как признают многие отечественные и зарубежные исследователи, политическая власть в России принадлежит бюрократии, которая, возможно, делится ею только с частью олигархического капитала, то именно такая социальная природа власти является причиной многостороннего ущемления интересов средних слоев. Низкий жизненный уровень большинства работников умственного труда, отсутствие у них необходимых условий для нормальной профессиональной деятельности ~ все это результат не только экономического кризиса, но и пренебрегающей их нуждами политики государства. Средние и мелкие предприниматели, как и значительная часть менеджеров, испытывают непосредственное давление бюрократии на свои интересы в виде непомерной тяжести налогов, чиновничьего произвола и мздоимства. Все эти явления вызывают, естественно, недовольство и протест среднего класса, как это видно, в частности, на примере наших респондентов. Но этот протест часто не имеет достаточно четкого адресата и относительно слабо осознается и переживается как конфликт с определенной системой власти.
Власть бюрократии ~ явление социальное, а характерные для России отсутствие осмысленного и последовательного политического курса, беспорядок, дезинтеграция и неуправляемость в административной и правовой системе ~ непосредственные последствия данного социального феномена. Как показал еще М. Вебер, бюрократия может быть рациональной и функциональной лишь в том случае, если она действует под руководством и контролем некоей высшей властной инстанции, задающей ей определенные цели и ценности. Вебер считал такой инстанцией харизматического лидера, но ею могут быть и опирающиеся на поддержку большинства общества институты представительной демократии (правящие парламентские партии), и их выдвиженцы в исполнительной власти. Предоставленная самой себе бюрократия таких целей и ценностей не имеет и неизбежно стремится использовать свои властные позиции для присвоения себе ресурсов общества. Такого рода «цель» сама по себе не порождает порядка и организованности и вполне может осуществляться в процессе беспорядочного соперничества бюрократических (или бизнес-бюрократических) клик. Нечто подобное и произошло в России в 1990-х годах.
Люди российского среднего класса возмущены бюрократическим беспределом, но они плохо представляют себе его социальные истоки и природу. Как подчеркивает известный современный теоретик социального конфликта Л. Козер, «враждебные чувства...совсем не обязательство приводят к конфликту... Враждебное отношение представляет собой предрасположенность к конфликтному поведению», конфликт же как таковой выражается в поведении, «всегда происходит во взаимодействии двух или более сторон» [29, с. 57].
Козер называет некоторые из условий, необходимых для перехода конфликтного отношения в поведение. Во-первых, это делегитимация неравного распределения прав: «...прежде, чем возникнет конфликт, ...менее привилегированная группа...должна прийти к убеждению, что лишена привилегий, на которые вправе претендовать». Во-вторых, условием реализации конфликта является его деперсонализация и объективация [29, c. 142, 145]: члены обделенной группы должны осознать, что причиной ущемления их интересов является не только жадность, своекорыстие и тому подобные личные свойства представителей привилегированной группы, но ее групповые интересы, объективные отношения власти. В российском контексте оба эти условия развиты слабо: как отмечалось выше, у представителей среднего класса отсутствуют представления о демократии как легитимной альтернативе бюрократической власти. И, вместе с тем, они часто склонны видеть наиболее эффективное средство борьбы с бюрократическим произволом в замене одних начальников и чиновников другими, и даже когда выражают пожелание «сменить власть», подразумевают смену людей, а не смену системы. Пока они будут разделять подобную иллюзию, конфликт среднего класса с правящей бюрократией будет существовать лишь в своих нынешних латентных, «свернутых» формах и не сможет вылиться в целенаправленное общественно-политическое действие.
Оценка уровня предрасположенности среднего класса к тому, что Козер называет конфликтной трансакцией или взаимодействием, важна для анализа его потенций социального актора и агента инноваций. Его открытое и последовательное противостояние господству бюрократии могло бы стать одним из функциональных и конструктивных конфликтов, играющих позитивную роль в экономическом и общественно-политическом развитии. Такой конфликт мог бы сыграть инновационную роль, поскольку содействовал бы развитию более свободных и цивилизованных рыночных отношений и экономическому росту, демократизации и становлению гражданского общества. Если же этот социальный конфликт останется в нынешнем размытом состоянии, средний класс останется в позиции «молчаливого большинства», фактически стабилизирующего бюрократическую власть. Что, возможно, совпадает с надеждами, которые возлагают на него правящие партии и адепты «управляемой демократии», видящие в среднем классе гаранта политической стабильности, но может в действительности укреплять лишь стабильность застойную, в сущности, стабилизировать кризис российской экономики и общества.
С динамикой данного макросоциального конфликта тесно связан еще один аспект потенций среднего класса как актора и агента инноваций. Этот аспект, о котором уже кратко упоминалось в начале данной главы, ~ развитость «горизонтальных» коммуникативных связей внутри среднего класса (или классов) как условие его превращения из конгломерата атомизированных индивидов в социального субъекта. Связь этих двух аспектов феномена действующей группы Козер, развивающий в данном случае идеи К. Маркса и Г. Зиммеля, выразил тезисами, во-первых, о «группосозидающих функциях конфликта» и, во-вторых, о том, что «конфликт с внешними группами усиливает внутреннюю сплоченность» (данной группы ~ Г.Д.) [29, c. 52, 111].
Эти тезисы вряд ли правильно понимать в том смысле, что один лишь конфликт создает сплоченную действующую группу. Для того, чтобы он мог сыграть эту роль, внутри самой группы должны существовать минимальные социально-психологические предпосылки сплоченности: если не четкое сознание, то хотя бы ощущение социальной, психологической, культурной общности членов группы, питающей их взаимное тяготение друг к другу, то чувство своего «мы», которое представляет собой элементарное условие группового единства. При нынешней раздробленности, атомизации российского среднего класса (вряд ли кто в этом усомнится) важно понять, существуют ли в сознании, психологии, поведении его индивидуальных представителей какие-либо потенции преодоления этой раздробленности, что представляет собой то «мы», которое ощущают люди среднего класса. Как отмечалось выше, такого рода социальные связи важны также и потому, что они образуют механизм социализации индивидуальных инноваций.
Попытаемся дать гипотетический ответ на данный вопрос, насколько это позволят узкие рамки нашего эмпирического материала. Обратимся к высказываниям наших респондентов, отражающим объем и интенсивность их социальных связей.
Один из них определяет эти связи как круг людей, с которыми «общаешься дома, на работе, к кому ходишь в гости». Другой, отвечая на вопрос, с кем он чувствует себя комфортно кроме семьи и друзей, называет коллег по работе, соседей, однокурсников и их приятелей, «некоторых людей, которые попали через другие связи» ~ всего человек восемьдесят. Еще один ~ мелкий предприниматель ~ говорит, что не любит общаться с людьми из своей профессиональной среды, предпочитает более культурных знакомых своей жены, работающей учительницей в школе.
Вот еще несколько определений «своей» общности или людей, которым респонденты доверяют.
«Несколько человек, друзей, не говоря о семье, несколько человек на работе».
«Оазис. Семья плюс некий круг общения. Работа...Я, может, пытаюсь переходить из одного оазиса в другой,...а между ними стараюсь не задерживаться...»
«Круг проверенных людей, он достаточно узок».
«Я вообще не очень склонен доверять людям... Просто ситуация такая, она требует держать...все время ушки на макушке».
«Кого знаю, тому я доверяю. Ну, родственникам, никому больше. Ну, друзьям. По работе соратникам. Больше некому».
(Испытываю доверие) «к своим товарищам, в первую очередь. С кем работаю, общаюсь, с кем у меня идет бизнес. Соответственно к родным и близким... Доверие, оно снизилось уже до нуля».
«Я испытываю доверие к людям, с которыми не пересекаются мои интересы. И однозначно это должны быть люди одинакового интеллектуального уровня, с тем, чтобы было достаточное взаимопонимание».
«Люди, которых знаешь давно, которым доверяешь не один год... Сейчас такой период, что друзьям нельзя доверять». Далее респондентка заявляет, что ощущает духовную близость с людьми «деловыми, энергичными и порядочными», которые являются представителями ее социальной группы (не вполне понятно какой, так как она одновременно служащая НИИ, турагент и коммерческий посредник).
«Я доверяю только близким людям, и то, наверное, не всем...Я могу действительно много и интересно общаться с человеком, который к моей группе не принадлежит».
«Я бы не стал говорить про слои. Есть люди персонально, которым я доверяю. А особо никому... Я чувствую близость с теми людьми, которые болеют за свое дело».
(Испытываю доверие) «к врачам, у меня много в семье врачей, много знакомых врачей, я представляю, как эти люди живут и чем живут» (респондентка-стоматолог).
«Из незнакомых людей я не смогу никому доверять, пока не послушаю человека, не пообщаюсь с ним».
«В семейном плане... еще какое-то доверие есть, но в плане общества ~ никто никому не доверяет».
Для правильной оценки этих высказываний важно учитывать, что респондентов просили назвать не только людей, но и группы, с которыми они ощущают близость или к которым испытывают доверие. Ответы на первую часть вопроса, акцентирующие непосредственные межличностные связи респондентов (семья, друзья, коллеги по работе, люди, с которыми они находят взаимопонимание), выглядят вполне естественными и, вероятно, были бы такими же в любой стране. Характерно, однако, что вопрос о «своей» группе, имеющий в виду связи надличностные, социально-групповые, в подавляющем большинстве случаев оставался без ответа или даже отвергался в принципе («я бы не стал говорить про слои», «никто никому не доверяет»). Такого рода связи оказались значимыми лишь для трех респондентов: одна назвала свою профессиональную общность, двое других ~ людей, близких им по психологическим (деловитость, преданность своему делу) и моральным (порядочность) характеристикам.
В первой главе настоящей работы рассматривались различные типы социальной самоидентификации людей среднего класса. В свете приводимых здесь данных можно предположить, что при всем различии этих типов «среднеклассовая» идентичность выражает в российских условиях скорее индивидуальное, чем групповое, коллективное самосознание людей. Речь может идти об оценке ими уровня своей индивидуальной адаптации к общественной действительности или уровня их индивидуальных аспираций, но не о чувстве органической принадлежности к социальной общности, выступающей в качестве субъекта, коллективно формирующего эту действительность. К такому предположению подводит отсутствие у большинства наших респондентов потребности в каких-либо внутригрупповых надличностных связях, образующих такую общность.
Учитывая гетерогенность российского среднего класса, его было бы правильно рассматривать (о чем тоже уже говорилось выше) как многогрупповое образование («средние классы»). Используя классификацию макросоциальных групп, предложенную мною в других работа (., например, [18, c. 247~281].)х, все или большинство этих «классов» можно отнести к типологическим группам, характеризуемым, прежде всего, сходством социальных и психологических свойств входящих в них людей. У некоторых из таких групп (прежде всего профессиональных, например, мелких предпринимателей, ученых, врачей, учителей) проявляются признаки более высокого идентификационного уровня групповой общности, при котором эта общность сознается. Но среди них нет групп, приближающихся к высшему из этих уровней ~ солидаристскому, при котором она воплощается в готовность к совместному действию. А это весьма ограничивает, если не вообще исключает их роль субъектообразующи (значении этого термина см. [18, c. 278, 279].)х групп, т.е. их возможности оказывать коллективное влияние на деятельность политических институтов, на социально-политические процессы в целом. Равно как и внутригрупповую трансляцию индивидуальных профессиональных, культурных и иных инноваций.
В основном люди российского среднего класса живут внутри своих микроскопических социальных ячеек ~ своего рода коконов, или «оазисов», в лучшем случае, профессиональных сообществ и не обнаруживают желания выйти за их пределы. Если же у некоторых из них и проявляется тенденция к такому выходу, к расширению своих социальных связей, то она оказывается направленной прежде всего на тех людей, с которыми их сближают или чисто профессиональные интересы, или общность воззрений. Можно констатировать, что такого рода социальные ориентации совпадают с типичной для современных развитых обществ тенденцией к субъективации социальных связей, к построению их на основе не «объективной» социально-групповой принадлежности и диктуемых ею норм и ценностей, но личностных ценностей и мотивационных предпочтений. В современном развитом мире происходит, по определению известного немецкого социолога, «складывание социальной идентичности в...индивидуализированном жизненном пространстве» [7, c. 110]. В принципе эта тенденция может привести к развитию в среднем классе потенциала социальной солидарности, способного сыграть конструктивную роль в формировании основанной на такой идентичности гражданской активности и гражданского общества. Но речь пока, по-видимому, может идти лишь об эмбрионах подобного развития.
Мы подходим здесь непосредственно к сформулированному выше вопросу о предрасположенности людей среднего класса к социальному действию, о социально-психологических ресурсах общественной (гражданской) и политической активности, которыми располагает этот класс, следовательно, об его потенциях как социального актора. Мы спрашивали наших респондентов, хотели бы они принять участие в деятельности какой-либо общественной или политической организации, либо инициировать какое-либо коллективное действие. Изложим полученные ответы.
Инженер-менеджер, 52 года. «Я бы хотел вступить (в какую-либо партию ~ Г.Д.), но не нашел. Я некоторое время интересовался; когда партии появились ~ много ~ я подумал, что здесь появилась свобода выбора. Ничего подобного... Про КПРФ не думал. Мне не нравится Зюганов, он достаточно пустой, похож на здоровый мыльный пузырь... «Яблочники», я считаю, засыпались на своей программе «500 дней», она была чистой авантюрой.... Все эти национальные движения правые ~ они часто таким экстремизмом попахивают, который мне не по душе. Поэтому я не примкнувший. Но...если бы человек назвал себя государственником...и еще по своим выступлениям хорошо бы соответствовал, тогда бы примкнул».
Мелкий предприниматель, 29 лет. На вопрос: «Если бы Вам предложили вступить в какое-нибудь общество, которое бы Вас интересовало?» ~ отвечает: «Если бы меня интересовало, вступил бы, конечно, ...а самому организовать ~ это сложно, непросто».
Научный работник, 62 года. «Каждый должен заниматься своим делом. Так вот, это (партия, движение ~ Г.Д.) дело не мое».
Научный работник, 53 года. «Нет, нет. У меня есть другие сегодня насущные проблемы. Если я их решу, возможно, у меня появится, так сказать, желание заняться чем-то еще. Пока у меня нет возможностей.... Стараюсь не желать того, что невозможно...»
Женщина-медик, научный работник, 60 лет. Председатель профкома института. Эта работа занимает у нее много сил и времени, респондентка руководствуется в ней принципом: «Можете сделать добро людям ~ сделайте».
Мебельщик-ремесленник, 53 года. Избегает участия в каких-либо общественных организациях, так как они вызывают у него «чувство неестественности, искусственности, притянутости, ...ощущение, что в основном все эти организации решают некоторые другие проблемы» (по сравнению с провозглашаемыми ими целями ~ Г.Д.).
Квалифицированный рабочий и дизайнер-художник, 47 лет. Согласился бы участвовать в самодеятельной общественной организации, например, по месту жительства или экологической. Но на практике это «трудно очень, вот у нас кооперативный дом, а собрание собрать практически невозможно». Инициативу в таких делах проявлять бы не стал: «Насчет этого я слабоват малость, самому раскачивать ~ это нет».
Менеджер предприятия по часовой технике, 27 лет. Возможно, вступил бы в экологическую организацию, но не стал бы проявлять инициативу в организации какого-либо коллективного действия: «...для этого нужно время, а у меня его очень мало. Поддержать ~ да, это самому интересно, а инициативу ~ нет, не взял бы».
Финансовый директор концерна, 28 лет. Не исключает для себя ни участия в самодеятельной общественной организации, ни инициативы ~ «вместе с группой единомышленников» ~ ее создания. Ставит такое участие в зависимость от возможной практической отдачи коллективного действия ~ «какие дивиденды я бы смог с этого получить», ~ а также от связи конкретного содержания инициативы с кругом его интересов.
Служащая НИИ, коммерческий посредник, турагент, 46 лет. На вопрос о возможном участии в самодеятельной добровольческой организации отвечает утвердительно. Участвовала в предвыборной кампании «Духовного наследия».
Студентка и менеджер, 21 год. На те же вопросы отвечает: «У меня это все зависит от того, насколько мне все это нужно».
Научный работник, 48 лет. «Сейчас не знаю. Пока я не уверен, времени не хватает... Хотя... Нет, затрудняюсь сказать».
Женщина-менеджер в магазине, 34 года. «Нет, наверное. Потому что я не считаю себя доросшей до этого... Это должен быть определенный уровень, и должен человек понять, что он к этому подошел. А я не подошла. У меня есть своя точка зрения на все, но чтобы я могла кого-то убедить, этого нет». При этом менеджер считает, что «обязательно нужно объединяться».
Женщина-стоматолог, 24 года. На вопрос о возможном участии в общественной организации отвечает «не знаю» и добавляет, что если бы за участие в какой-нибудь разовой акции ей грозило увольнение с работы, она бы от него отказалась.
Научный работник-эколог, 29 лет. Согласился бы участвовать в общественной, не политической организации, если бы «чувствовал, что я там нужен и что будут какие-то результаты».
Оценить смысл этих высказываний нам поможет знакомство с теми немногочисленными респондентами, которые реально активно участвуют в общественной или политической деятельности. Один из них ~ 50-летний москвич, в недавнем прошлом ученый-геофизик, а теперь, по его собственным словам, профессиональный правозащитник, сотрудник «Мемориала». Общественной деятельностью начал заниматься еще в годы перестройки, научную работу любил и оставил ее только потому, что по финансовым причинам «закрыли тему». Его семейный доход невелик ~ 1 700~1 900 руб. в месяц на человека, хотел бы иметь раза в три больше, но никаких усилий до сих пор для увеличения своих доходов не предпринимал (хотя такие возможности есть ~ получение по конкурсу гранта на собственный правозащитный проект).
Основная сфера его деятельности в «Мемориале» ~ связи с региональными правозащитными организациями, прежде всего помощь им в отстаивании своих прав, в противостоянии ущемляющим их местным администрациям. Другая работа, которой респондент очень увлечен, ~ разработка новой демократической концепции по межнациональным отношениям (сам он по происхождению украинец, но считает себя русским) и защита прав этнических меньшинств. Он выступает за этнический нейтралитет государственной власти (как в независимых государствах, так и в автономных республиках России), и за культурную автономию, и за государственное многоязычие. На вопрос интервьюера: «Чего бы Вам хотелось добиться в жизни?» ~ отвечает: «Мне бы хотелось, чтобы в основные международные законы были внесены поправки, которых я добиваюсь, по национальному признаку. Которые декларировали бы право народа на самоопределение как развитие национальной культуры именно в рамках культурных автономий... Это сверхзадача. Если бы она была реализована в моей жизни, на что я мало надеюсь, это была бы вершина моей жизни».
Респондент принадлежит к «субъективному» среднему классу, относит себя к пятой-шестой ступенькам социальной лестницы. Эту лестницу он понимает довольно оригинально ~ как «гуманитарную иерархию»: ступень, на которой находится человек, определяется уровнем развития у него «гуманитарного мышления».
В политическом плане респондент ~ либерал и демократ. Намерен голосовать за СПС, симпатизирует Гайдару, Чубайсу, Немцову, Кириенко. Явлинского считает «крупной личностью», но обвиняет его в расколе демократического движения в России. В отличие от многих своих единомышленников нынешнюю власть в России осуждает, считает ее недемократической. «Реформы, ~ говорит он, ~ остановились в конце 92 года... Нет настоящих реформ, нет перехода к правовому государству. Нарушение государством своих законов на всех уровнях: и на федеральном, и на московском... Отсутствие настоящего предпринимательства и поддержки предпринимательства».
Респондент голосовал дважды за Ельцина и не жалеет об этом, но считает, что теперь (1999 год) президент недееспособен по болезни. К Путину относится с опаской. Респонденту «не нравится, что новый премьер набирает очки на [чеченской] войне. Набирает популярность как сильная рука... А может начаться удушение свободы печати... Это самое страшное».
Респондент принимает участие в политической жизни не только как правозащитник, является наблюдателем на выборах. И хотя мало надеется, что население «выберет что-то подходящее» и испытывает «апатию и безнадежность», заявляет, что «в более масштабном плане» он оптимист. «Это неизбежность».
Хотя правозащитник и говорит, что доверяет только близким, в действительности у него очень широкие, эмоционально и содержательно насыщенные социальные связи. Больше всего в работе, говорит он, отвечая на вопрос интервьюера, его удовлетворяет «контакт с нашими людьми, которые приезжают из городов. Я вижу, как мы им нужны, и если мне удается им помогать, я испытываю огромное удовлетворение». И далее респондент рассказывает о своем сотрудничестве с лидерами различных национальных общин.
Другой респондент ~ 60-летний сотрудник технического (прикладного) научно-исследовательского института, работающего на хозрасчетной основе, кандидат наук. В начале 1990-х годов полтора года работал главным инженером предприятия, потом из-за конфликта с руководством вернулся на рядовую должность. Материальное положение у него напряженное: получает, по его словам, «среднюю зарплату» и содержит на нее двух иждивенцев ~ жену-пенсионерку и сына-студента.
Еще в застойные времена в качестве профсоюзного активиста респондент критиковал спущенные сверху правила социалистического соревнования, за что его пытались обвинить в антисоветизме. В период перестройки был лидером «Демократической России» в одном из районов Москвы, в 1990-1993 годах ~ депутатом районного совета, избранного на альтернативной основе. Перспективу перехода в профессиональные политики, даже в освобожденные депутаты, принципиально отвергал ~ можно сказать, что идеалом для него является деятельность в структурах гражданского общества. В настоящее время отошел от участия в политической работе ~ как из-за распада демократического движения, так и по причине материальных трудностей («я должен зарабатывать на семью деньги»). Тем не менее, является заместителем председателя профкома института и в этом качестве борется за усиление профсоюзного контроля за деятельностью администрации.
Этот представитель массовой научно-технической интеллигенции оценивает политические институты и состояние общества в тех же негативно-критических тонах, что и другие наши собеседники. Но в то же время говорит о себе: «Я счастлив, что я нахожусь в данный период в [данной] стране, потому что я нашел большие возможности и применил их». На вопрос о настроениях, царящих в обществе, отвечает: «...беспомощность, невозможность влияния на эти процессы (борьба за передел собственности, коррупция и т.п.), бессмысленность всего этого... Кто-то там жирует, кто-то там что-то захватывает, ~ что уж тут поделаешь? ...судьба». Но себя к беспомощным, к махнувшим на все рукой ни в коей мере не относит ~ ощущает себя активным субъектом общественных процессов. «Мое политическое участие в данное время, ~ говорит он, ~ и это один из главных путей и впредь ~ это просвещение. И с кем бы я ни общался, я просто отстаиваю свою точку зрения, где бы я ни был... Самое главное сейчас ~ это воспитание и просвещение, [разъяснять], что было, что есть сейчас и что будет, если мы не сделаем того-то и того-то».
«Я себя чувствую свободным ~ говорит он далее. ~ ...Надо строить демократию, но то, что достигнуто, то, что сделано ~ это огромное достижение...это величайшее достояние, которое надо всячески защищать, отстаивать».
Несмотря на «огромные достижения», на то, что он лично счастлив, чувствуя себя свободным человеком, демократия, по его определению, «не строится, она топчется на месте». Причиной этой ситуации он считает антидемократизм государственного аппарата. «Чиновник тормозит это движение. Ему стало это невыгодно, ему выгоднее оставаться в том состоянии, в котором находится государство. Это состояние коррумпированности всех органов...»
Содержание, которое респондент вкладывает в само понятие столь дорогой для него демократии, выглядит на фоне других интервью достаточно своеобразным, даже экзотичным. Первичной, «базовой» характеристикой демократии, как можно судить по его высказываниям, он считает отнюдь не демократическое политическое устройство, как ни важно оно само по себе. Любое государство, по его мнению, антидемократично по своей сути, или, по меньшей мере, ему органически присущи авторитарные тенденции. Он определяет государство как «инструмент управления людьми, направленный в основном против людей. Государство и народ ~ понятия разнополюсные. Образуют единство только в случае большой опасности для страны». Таким образом, с точки зрения респондента, демократического государства вообще нигде не существует. Здесь чувствуются отголоски усвоенных им в былые годы марксистско-ленинских теоретических концепций, но, возможно, и более архетипического глубинного уровня отечественной ментальности ~ представления о неизбежном противостоянии власти и народа. Главное в демократии для него ~ это демократическое сознание и поведение самих граждан, демократия выступает как понятие преимущественно психологическое и поведенческое.
Именно с этих «методологических» позиций респондент объясняет как кризис и распад демократического движения в России, так и современную политическую ситуацию. «Под словом демократия, ~ рассуждает он, ~ мы понимаем...свободу высказываний, свободу поступков и принятие решений коллегиально. Мы все вышли из другого теста, и для того, чтобы глубже понять демократизм и применить понятие демократии к управлению, очевидно, большинство из нас просто не готово».
Не готовой к демократии оказалась не только демократическая элита ~ лидеры и их окружение, не готово и общество в целом. Респондент полагает, что состав нынешнего депутатского корпуса отражал и отражает «большинство умонастроений нашего населения», уровень «подготовленности широких масс». «Россия, ~ продолжает респондент, ~ находится на очень низком уровне культурного развития. Очень широкие массы на очень низком уровне... Россия была всегда слепа, отсюда и слепая вера в Христа, в коммунизм, в Будду, в кого угодно...»
Респондент видит в российском обществе единственную силу, способную преодолеть инертность масс, просветить их. Это ~ «интеллигенция...небольшая часть ...которая думает, что движение и перспектива все же есть и надо бороться за него...»
Образ общества и его динамики, выраженный в размышлениях нашего респондента, достаточно типичен для умонастроений российской интеллигенции: его отзвуки можно встретить и в современных социально-философских трактатах, и в газетно-телевизионной «политологии». Графически этот образ можно передать в виде треугольника, в одной вершине которого находится инертная масса, в другой ~ просвещенная и просвещающая интеллигенция, в третьей ~ корыстолюбивая и беспринципная власть. Если знак оценки каждой из этих сил более или менее ясен (позитивный для интеллигенции, негативный для власти, актуально негативный, но потенциально позитивный в случае роста просвещенности ~ для массы), то отношения между ними далеки от такой ясности. В особенности это касается отношений между демократическим интеллигентским меньшинством и властью.
Приобщение к власти наш респондент, как и многие его соотечественники-интеллигенты, считает морально недопустимым, почти неизбежно вовлекающим человека в мир корыстолюбия и коррупции. Вхождение во власть демократических лидеров, по его мнению, ~ одна из причин кризиса демократического движения. Стремление людей к власти («во власть лезут») с тем, чтобы участвовать в дележе еще не поделенного народного достояния, это, полагает респондент, «ржа, разъедающая общество». В свое время он отказался стать освобожденным депутатом: «Не вход в политику, т.е. профессионально не вход в политику... ~ это тоже одно из моих кредо». «Непрофессиональная политика» ~ это для него в основном общественная деятельность, основанная на непосредственных межчеловеческих контактах, общении, дискуссии «лицом к лицу».
В общем, респондент ~ скорее сторонник так называемой прямой, чем представительной, демократии. Ему явно внушает недоверие институт политических партий: «Любая партийная дисциплина, любое партийное подчинение руководящей части и принятие решений, оно вообще в принципе не согласуется с народной демократией». Инженер-исследователь категорически против выборов по партийным спискам: «...я только за прямые свободные выборы».
Критика государства, институтов представительной демократии, партий и т.д., прямо или косвенно присутствующая в рассуждениях респондента и повторяющая идеи многих известных и неизвестных ему мыслителей разных стран и времен, подчинена одному определяющему императиву: люди должны знать и знать хорошо тех, кому они поручают управление своими делами. Этот императив вряд ли может вызвать возражения. Неясно лишь, как его можно реализовать на геополитическом пространстве, более обширном, чем городской микрорайон, тем более в такой стране, как Россия. Неясно также, как «чистая» принципиально отчужденная от «грязной» власти и противостоящая ей интеллигенция сможет добиться «народной демократии», если не произойдет радикальных перемен в характере, принципах деятельности государственной власти. Вряд ли подобный результат достижим одним лишь давлением просвещенной интеллигенции на власть, если она, власть, все равно, как следует из концепции респондента, будет стремиться работать «против людей», если ее носители не изменят свою ментальность, не внесут в нее в той или иной мере те принципы, которыми руководствуются «чистые интеллигенты».
Респондент как будто бы вообще не задается подобными вопросами, и это, очевидно, достаточно типично для тех представителей восхваляемого им слоя, которые, столкнувшись с реальными трудностями выработки и проведения абсолютно честной и моральной политики, с цинизмом и коррумпированностью политиков и бюрократов, сделали для себя высшим принципом «незамаранность властью». Принцип морально, может быть, безупречный, но не особенно конструктивный...
Не вполне понятно также, что представляет собой другая сторона треугольника: отношение «интеллигенция ~ массы». Чтобы интеллигенция могла просвещать массы, эти последние должны испытывать нужду в просвещении. И чисто познавательных или информационных потребностей здесь мало: обычно люди хотят больше всего узнать о том, что затрагивает их интересы. Но как раз понятие интересов, как групповых, так и личных, в системе представлений нашего респондента отсутствует. Так же как отсутствуют какие-либо признаки дифференциации «массы» по основанию групповых интересов, культуры или какому-либо иному. В общем, его «масса» весьма напоминает «народ» в словаре ранних поколений русской интеллигенции. Что, наверное, не случайно, ибо за всеми этими обобщенными понятиями кроется аналогичное представление об отношениях между просвещенным меньшинством и инертным, некультурным большинством. Движение последнего к демократическому сознанию подразумевается нашим респондентом как направляемое не интересами конкретных социальных групп, но принципами, распространяемыми в нерасчлененной массе теми, кому эти принципы лучше известны.
Все это очень и очень традиционно, а многое ~ чего не замечает наш респондент ~ даже испытано на практике. Включая «прямую демократию», которую в свое время надеялись осуществить через Советы...
Самое замечательное в этом пожилом специалисте, однако, не столько его теоретические рефлексии сами по себе, сколько их соотношение с его реальной жизненной практикой. Соотношение довольно своеобразное: противопоставляя себя государству и профессиональной политике, он весьма активно этой политикой интересуется и, в сущности, вполне конкретно и позитивно определяется в политическом пространстве. Так, во время своей избирательной кампании он, рискуя провалиться уже на стадии выдвижения, заявил, что «безусловно и полностью» одобряет программу Гайдара. Выборы в московскую Думу (накануне которых проводилось интервью) имеют, по его мнению, «колоссальное значение». Его недоверие к партиям не означает равнодушия к их программам и к партийно-политической деятельности вообще. «Кое-что мне нравится у Гайдара, кое-что у «Яблока», кое-что мне нравится у «Нашего дома», и очень хорошо, что на московских выборах они нашли какой-то общий язык и выступают одним крылом, и, естественно, тогда можно голосовать за общность».
Если теоретическая схема респондента формулируется в ценностно-идеологических категориях и игнорирует материальные интересы, то в своей собственной общественной деятельности он эти интересы активно отстаивает. Будучи заместителем председателя профкома института, он добивается проведения мер, улучшающих материальное положение сотрудников: в коллективный договор внесен пункт о сокращении раздутого административного персонала, что позволит повысить зарплату исследователей. По его инициативе в структуру бюджета института внесены изменения, сделавшие возможным снизить налоговые выплаты, улучшить финансирование исследований и снизить их себестоимость. Он считает, что профсоюзы должны приспособиться к изменившимся условиям, защищать интересы работников в процессе взаимодействия с администрацией. Любая общественная работа, говорит респондент, «должна быть серьезной, профессиональной».
В общем, наш специалист, будучи по натуре человеком общественно-активным, чувствует себя лучше и работает охотнее всего на «низовом» уровне ~ в рамках первичных ячеек общества: локальных (микрорайон), профессионально-трудовых (предприятие). В политологической литературе давно уже отмечено, что подобная ориентация (ее называют по-разному: приходская культура, коммюнотаризм) образует необходимый культурно-психологический компонент гражданской культуры и гражданского общества. Известно также, что одну из основных характеристик гражданского общества образует его автономия от «общества политического», т.е. от профессиональной политической деятельности и институтов власти.
По всем этим параметрам респондент является вполне сложившимся субъектом гражданского общества. Помимо личных характерологических черт, можно назвать два источника его либерально-гражданской ориентации. Во-первых, активное отторжение тоталитарной системы, в которой он прожил большую часть своей жизни и главную черту которой он видит в «лицемерии». Антитоталитаризм взаимосвязан у респондента с высоким ценностным значением, которое он придает свободе, и со стремлением к истинной общественной активности, т.е. не формальной и контролируемой властью, а свободной и практически результативной.
Во-вторых, мировоззрение нашего специалиста опирается на валоризацию традиций российской интеллигенции. Эти традиции актуализируются в его сознании ситуацией в постсоветской России, особенно воспроизводством традиционного для страны типа властных структур, кризисом и распадом демократического движения. Гиперболизированное и несколько наивное акцентирование роли интеллигенции, идей просвещения, как и жесткое противопоставление общественной активности государственно-политической сфере ~ это, в сущности, концептуализация определенного механизма психологической защиты. Беспомощность людей в обществе, о которой с горечью говорит респондент, ~ по всей вероятности, чувство, испытываемое им самим и отражающее реальную невозможность даже общественно активных граждан как-то воздействовать на высший, макрополитический уровень действительности. Таковы сегодняшние российские реалии. Чувство беспомощности, бессилия респондент замещает отторжением и уничижением не поддающегося воздействию объекта (власти, политики), хотя объект этот и остается в центре его внимания. А также убежденностью в решающей преобразующей роли своего слоя (таких людей, как он) в исторической перспективе.
Комплекс представлений и установок респондента вместе со всеми его изъянами, вероятно, можно признать естественным и в определенном смысле конструктивным для современного российского общества. При нынешнем уровне и характере его институционализации именно общественная активность «снизу», ведущая к формированию и развитию гражданского общества, является наиболее реальной и перспективной. Другое дело, насколько этот комплекс, свойственный «советскому» поколению российских демократов (т.е. тем, кто принадлежит к «старому», в значительной мере деградирующему сегодня среднему классу), может быть унаследован и воспринят новыми его генерациями.
* * *
Исследователи РНИСиНП, опираясь на многочисленные данные, полученные в ходе опросов представителей среднего класса, заключают, что «участие в общественной и политической жизни для подавляющего числа опрошенных не относится к числу очевидных приоритетов в реализации жизненной стратегии. Причем не просматривается особого стремления к самоорганизации даже по защите своих собственных интересов. В то же время исследование показало, что в российском среднем классе достаточно высок, хотя во многом и не востребован, потенциал гражданственности, что дает основание рассчитывать на формирование не в таком уж отдаленном будущем рационально-активистской модели политического участия и общественной самодеятельности в рамках локальных сообществ» [53, с. 215].
Данные наших интервью в основном подтверждают эти выводы. В сознании большинства респондентов, несомненно, присутствует некое общее понимание важности или целесообразности коллективного действия, но это понимание носит пассивный характер, оно обнаруживается лишь будучи «вытащенным» вопросами интервьюера и совершенно очевидно не актуализировано в потребностях респондентов и их жизненных установках. Т.е. представляет собой по сути дела феномен ценностного сознания, а не поведения. Реальной потребностью, причем весьма настоятельной, общественная активность является лишь у немногочисленного меньшинства респондентов, существенно отличающихся от остальных всей структурой своей мотивации и психологическим складом личности.
Подобные различия между людьми с «общественной жилкой» и теми, у кого она отсутствует или выражена слабо, в общем, вполне естественны и существуют в любом современном обществе. Вместе с тем совершенно очевидно, что в России действуют специфические факторы, подавляющие общественную активность людей. С одной стороны, это особо трудные условия повседневной жизни и труда основной массы населения, в том числе и рядовых представителей среднего класса, сосредотачивающие их заботы на проблемах элеметарного выживания и не оставляющие временных и физических ресурсов для активной деятельности в других сферах. С другой стороны, сказывается отсутствие культуры общественной деятельности ~ она не могла сформироваться в условиях «реального социализма», где активность такого рода, не контролируемая и не инициированная властями, находилась под строжайшим запретом. В связи с этим характерно, что некоторые респонденты старшего поколения с порога отвергают для себя возможность участия в коллективных организациях и акциях, считая его «не своим делом». В такой позиции, возможно, сказывается подсознательное отождествление подобного участия с теми его формами, которые принудительно навязывались людям в советское время, и психологическое отторжение этих форм ~ своего рода антиколлективистский синдром.
Не менее характерно, что некоторые респонденты старшего поколения охотно выполняют функции профсоюзных активистов: в советское время профсоюзы, несмотря на всю свою зависимость от партократии, все же занимались реальными и полезными делами в социальной сфере. Иными словами, работа в профсоюзе ~ помощь людям или отстаивание интересов трудового коллектива (что стало возможным в постсоветское время) ~ это известная из опыта конкретная форма общественной деятельности, в которой, очевидно, легче всего находит свое воплощение предрасположенность к роли социального актора.
В высказываниях некоторых респондентов глухо упоминается также возможность коллективной организации по месту жительства ~ например, представляющей интересы жильцов многоквартирного дома. О каких-либо других возможных целях коллективной организации представители пассивного большинства респондентов не говорят. Создается впечатление, что декларируемая ими готовность участвовать в такой организации носит абстрактный, «безадресный» характер, не ассоциируется с какими-либо конкретными целями и интересами. Они, несомненно, знают или что-то слышали об уже существующих общественных движениях ~ правозащитных, экологических, но, по всей видимости, никак не связывают с ними свою потенциальную активность.
Здесь мы подходим к более глубокой, чем отсутствие сил, времени или культурных традиций, психологической основе общественной пассивности людей среднего класса. Все они прекрасно понимают, что существующие социально-экономические и политические отношения, прежде всего власть бюрократии, ущемляют их материальные и профессиональные интересы, но у них нет ни представления, ни хотя бы смутного ощущения реальных возможностей эффективной коллективной защиты этих интересов. Не случайно все они исключают для себя перспективу личной инициативы в проведении какой-либо коллективной акции и готовы в лучшем случае лишь присоединиться к уже действующей организации. Наиболее труден для них не столько сам акт участия, сколько нахождение точки приложения такого участия, его достижимой цели, которая могла бы привлечь других людей и оправдать затраченные усилия. Поэтому задача найти такую цель, инициировать акцию переносится на других.
В основе пассивности респондентов лежит неуверенность или неверие в результативность коллективных действий: их необходимость признается теоретически, но их практическая возможность и отдача если не вовсе отрицаются, то не осознаются в виде конкретных образов-представлений. ~ Представлений как о природе и субъектах конфликта, воплощаемого в этих действиях, так и о возможностях его разрешения в интересах «своей» стороны. Точнее было бы сказать, что речь идет не об абсолютном неверии, но об отсутствии убежденности, достаточно сильной мотивации, питаемом незнанием. Негативный когнитивный фактор подавляет мотивы социальной активности, резко ограничивая их «вес» в психологии личности. В результате в коллективном и индивидуальном сознании укрепляется комплекс социальной слабости людей по отношению к силам, господствующим в обществе.
Этот комплекс, несомненно, коренится в недавнем историческом опыте отечественного социума. Отношения «реального социализма» сформировали у советского человека специфический «адаптационный индивидуализм», а возникший в период перестройки подъем общественно-политической активности и общественных движений не привел в конечном счете ни к ослаблению власти бюрократии, ни к росту влияния граждан на властные структуры. Разочарование в результатах демократического подъема конца 1980-х ~ начала 1990-х годов отчетливо звучит в высказываниях даже не изменивших своим активным позициям респондентов-демократов.
При всех различиях в психологии и поведении представителей пассивного большинства и активного меньшинства среднего класса можно констатировать, что и у тех, и у других так или иначе проявляются ~ хотя и в разных формах ~ отмеченные черты российского общественного сознания. Даже самые активные демократы фактически признают невозможность непосредственного воздействия общественности на возмущающую их ситуацию в «большом обществе», на политику власти. Главные их усилия сосредоточены на деятельности в конкретных секторах (защита прав граждан, трудового коллектива, межэтнические отношения) и, поддерживая демократические политические течения, они не проявляют какой-либо собственной активности или инициативы в сфере «большой политики». Похоже, они не видят каких-либо возможностей реального воздействия на эту сферу. И в этом отношении они весьма схожи с «пассивными» респондентами, которые, если и допускают для себя возможность участия в коллективных акциях и организациях, то не в политических, а общественных, нацеленных на конкретные «частные» задачи (за исключением одного респондента, искавшего, но не сумевшего найти свою политическую нишу). И тех, и других объединяет мировоззренческая позиция, которая определена выше как «оптимистический фатализм»: надежда на позитивные изменения в обществе и политике, которые произойдут в силу неумолимого хода событий, непонятно кем направляемого и стимулируемого.
Ранее уже отмечалось, что развитие общественной активности, прежде всего именно на низовом и неполитическом уровне, является для сегодняшней России естественной фазой становления гражданского общества. В то же время, учитывая остроту проблем «макроуровня» российской действительности, весьма существенным представляется вопрос о возможных мотивах и целях такого рода низовой активности. В какой-то мере ответить на него позволяют, может быть, различия, просматриваемые в этом плане между старшими и младшими респондентами. Для респондентов старшего поколения важную роль в этих мотивах играют «общие идеи» ~ демократии, свободы, социальной справедливости, «государственничества» и т.д. Младшие тяготеют к более прагматическим мотивам, говорят о возможном участии лишь в таких акциях, которые соответствуют их личным интересам и могут принести непосредственные «дивиденды». И подчас даже исключают такое участие, если оно связано с каким-либо риском для их личной ситуации.
Возможно, этот межгенерационный сдвиг в позициях говорит о потенциальной связи между развитием гражданского общества и формированием осознанных групповых интересов. Но в любом случае, эти процессы рано или поздно столкнутся с проблемой перехода гражданской активности на социетальный и, следовательно, политический уровень. Правда, в настоящий момент такая перспектива ~ идет ли речь о каких-либо крупных социальных движениях или о становлении «рационально-активистской модели политического участия» ~ выглядит пока в основном умозрительной. Сегодня люди среднего класса, во-первых, являются не столько реальными, сколько потенциальными социальными акторами. И, во-вторых, эти их потенции направлены преимущественно на отстаивание локальных, низовых интересов, но не на какие-либо социетальные изменения.
К ПРОБЛЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ СРЕДНЕГО КЛАССА
В заключительном разделе данной главы будут рассмотрены проблемы сознания, поведения и социальной активности элитных слоев среднего класса. Под этими слоями я понимаю не те его группы, которые отличаются от остальных более высокими доходами, профессиональной квалификацией или особыми духовно-нравственными качествами, но те, которые, как отмечалось выше, действуют на среднем (мезо-) уровне общественного здания и занимают высокие позиции в более или менее крупных организациях. Иными словами, в основу выделения элитных слоев в данном случае кладется критерий статуса.
Понятие «социальной элиты» ввел в научный оборот Ю.А. Левада, определивший ее как «те группы и структуры, которые оперируют в поле институционализированной профессиональной деятельности (работы, обучения) и обеспечивают передачу практических образцов, установок, ориентиров, ...повседневных образцов действия» [34, c. 205, 210]. В исследованиях ВЦИОМ, проведенных под руководством Левады, в категорию социальной элиты включаются и рассматриваются недифференцированно две группы: руководители и рядовые специалисты. Мне такие ее рамки, во всяком случае применительно к обозначенной только что цели исследования, кажутся чересчур широкими и отчасти несколько противоречащими цитируемому основному определению. Во-первых, вряд ли можно утверждать, что все рядовые специалисты действительно осуществляют «элитную» функцию передачи образцов действия. Во-вторых, сам Левада одним из наиболее очевидных признаков элитного статуса считает «более высокие (по отношению к общему уровню) позиции в иерархии социального управления» [34, с.205], рядовые специалисты такими позициями по определению не обладают.
Возможно, что расширительное понимание социальной элиты соответствует цели исследования ВЦИОМ, посвященного социальной элите российского общества: даже и рядовые специалисты в той или иной мере могут осуществлять «элитные»» функции по отношению к населению в целом. Цель нашего исследования другая: выявить социальные и социально-психологические характеристики элиты среднего класса ~ т.е. тех его групп, которые играют ведущую роль в формировании и передаче образцов поведения, специфических именно для тех, кто по тем или иным критериям может быть отнесен к данному класс (нное различие выражается, в частности, в том, что Ю.А. Левада, считая социальную элиту «эмбриональной формой» среднего класса, тем самым фактически сближает рамки обеих этих категорий (см. [34, c. 287]).)у. Исходя из общего определения социальной элиты, сформулированного Левадой, мы будем иметь в виду иное, более узкое, чем в исследованиях ВЦИОМ, эмпирическое его наполнение (интересующие нас «руководители» составляют лишь четверть выборки ВЦИОМ [34, с. 276]).
С представителями элиты среднего класса мы познакомимся, как и с представителями рассмотренных выше его групп, на индивидуальном уровне. Как упоминалось выше, локальные рамки нашего эмпирического материала в данном случае уже, чем в других разделах, и ограничиваются лишь одним российским городом ~ Тюменью. Город этот, правда, особенный ~ он является центром одного из самых богатых нефтяных регионов России. Можно без особой аргументации принять тезис, что в условиях более высокого, чем в подавляющем большинстве российских регионов, уровня доходов и ряда других экономических показателей, процессы образования среднего класса и его элитных групп должны идти интенсивнее и быстрее. В этом и состоит особый интерес данного локального материала. В то же время, поскольку используемые нами «рефлексивные биографии» представителей тюменской элиты полностью опубликованы и обстоятельно прокомментированы местными социологами, нам нет необходимости столь подробно излагать их и можно ограничиться наиболее существенными моментами.
Приведем несколько выдержек из «рефлексивных биографий», отражающих мотивацию, систему ценностей и направленность профессиональной деятельности их авторов.
Судья арбитражного суда Тюменской области, в 1984-1989 годы прокурор города, 51 год. Профессиональная деятельность для респондента ~ не «просто средство заработать себе на жизнь, но и возможность познания и преобразования окружающего мира. Профессионал понимает, когда его «ведут» и никогда не позволит себе стать ведомым... «Не хочу быть, как все, но избираю такой способ самореализации, который приемлют моя совесть, сознание самодостаточности... Моя «философия успеха» предполагает, что...здесь требуется жесткое ограничение, связанное с ценой успеха, с его моральной ценой... Я больше склонен к выбору реального, конкретного, заметного результата, чем к его оформлению в некие престижные звания, дипломы и т.д.» [4, c. 10, 12, 21].
Педагог, работала директором школы, заведующей РОНО в Тюмени, основатель и в 1988-1999 годах директор педагогичеcкого колледжа, возраст более 60 лет. Респондентка происходит из дворянской интеллигентской семьи, подвергавшейся репрессиям в 1920~1930-х годах. В ее автобиографии почти нет общих размышлений о профессионализме: она предпочитает им конкретный рассказ о своем профессиональном опыте. «Я понимала важность развития у будущих учителей предметных знаний, но нравственную сторону подготовки педагога поставила на первый план». Создала школу, «не похожую на другие...не в методах преподавания, а, прежде всего, в новом нравственном микроклимате. Ребенок в такой школе будет расти в приятной внешней обстановке, в условиях красивых нравственных взаимоотношений между учениками, в общении с добрыми учителями, в обстоятельствах, способствующих нравственному совершенствованию родителей. Считаю, что в этом плане школа № 4 нам удалась». Впоследствии педагог осуществила свою главную мечту ~ «создать специальное учебное заведение для подготовки учителей, соответствующих высоким духовным критериям». К этой цели шла трудным путем, много экспериментировала, наталкивалась на сопротивление местных властей. Выдвинула ряд новых идей, в том числе «комплекса непрерывного образования: детский сад, школа, педколледж, университет подготовки будущего педагога как учителя начальных классов и предметника одновременно».
У респондентки свои жизненные ценности, социальные связи. Весь свой образ жизни педагог четко определяет как «интеллигентский». «И в наши дни, ~ пишет она, ~ насколько я могу судить и о своей педагогической среде, и о среде врачей, окружению моей дочери, ...современные интеллигенты не стремятся стать «новыми русскими»... Они ориентированы на стандарты среднего класса ~ с точки зрения материального благополучия. Но они хотят быть духовно богатыми... Определенный уровень материального достатка не лишает интеллигенцию ее духовности» [4, с. 22~33].
Доктор философских наук, происходит из рабочей семьи, по образованию историк-античник, заведующая кафедрой социального менеджмента университета, основатель и ректор Тюменского международного института экономики и права (характеризует его как «высшее учебное заведение нового типа, предполагающее подготовку спецалистов и граждан России XXI века, первый и пока единственный вуз субъекта Российской Федерации»). Возраст между 50-ю и 60-ю годами. Как и бывший директор педагогического колледжа, респондентка идентифицирует себя и в социальном, и в духовном плане с интеллигенцией, но, в отличие от первой, не разводит интеллигенцию со средним классом и акцентирует необходимость обновления ее традиций. «Мне представляется, ~ пишет она, ~ что сегодня понятие «интеллигент» меняется». Интеллигенты становятся прежде всего людьми дела ~ «интеллигент понимает, что надо делать и обязательно реализует свое понимание в деле». Своим делом ректор считает осуществляемую ее вузом подготовку региональной элиты ~ «людей высокого интеллекта, способных формулировать общественно значимые идеи, а также находить способы, методы и средства их реализации». Естественно, что ее жизненные ценности ~ высокий профессионализм, «предполагающий хорошие результаты», социально эффективный труд («Я считаю себя счастливым человеком и, прежде всего, потому, что очень люблю свою работу. Ни одного дня не было у меня, чтобы я пожелала изменить мою профессию»), а также социальная ответственность («В той ситуации, в которой мы сейчас живем, каждый должен максимально делать то, что может, улучшить ее в том месте, где он находится»).
В сущности, осью мировоззрения ректора является социально ответственный и социально конструктивный индивидуализм. «Именно личности, ~ убеждена она, ~ творят историю». И выражает свой главный жизненный принцип афоризмом: «Если я не за себя, то кто за меня, но если я только за себя, то зачем я?» А решающим интеллектуальным качеством личности, позволяющим ей выполнять свои социальные функции, она считает ум, способность к инновациям. Ее работа ректора связана, по ее словам, «со ставкой на умных людей и их готовность к нововведениям» [4, с. 34-50].
Депутат городской Думы (от «Демократического выбора России», «Правого дела»), председатель исполкома демократической коалиции ~ движения «Западная Сибирь», по специальности геофизик, до перехода в 1996 году на политическую работу ~ заместитель генерального директора «Тюменьнефтегеофизики», 36 лет. Респондент ~ не только ученый и политик, но и успешный предприниматель ~ создал процветающее акционерное предприятие по программному обеспечению геофизических организаций. Главные ценности: семья, собственность, свобода («это когда никто не лезет в мои дела» и «когда есть выбор, куда истратить деньги, ...если я их заработаю, а еще ~ самому их заработать»), «уважение к норме», профессионализм, успех, скромность, в том числе в потреблении («успешный человек должен быть достаточно скромным»), помощь людям, не вписавшимся в новые условия жизни (пренебрежение к ним, считает респондент, «недопустимо»). Профессионал, по его определению, это «человек, вкладывающий душу в свое дело, человек творческий... А политика требует особого склада души, ...политике нужны подвижники».
Респондент ощущает себя лидером: «...движение [«Западная Сибирь»] создавала команда людей, которая сложилась вокруг меня... И мне кажется, мы создали сегодня такую политическую силу, которая способна создать реальную программу и дать людей, которые смогут выполнить эту программу». В качестве депутата профессионально занимается проблемой территориального общественного самоуправления («депутат должен быть профессионалом»), разработал ряд конкретных предложений. В период проведения исследования намеревался баллотироваться в Государственную Думу; «это большая цель, достигнув которую я смогу воплотить свои идеи о том, как должна быть устроена жизнь в одном конкретном городе». Главная идея возглавляемого им движения ~ «воздействие на власть как во время выборов, так и в период между выборами» [4, с. 51~61].
Директор (с 1990 года) булочно-кондитерского комбината. В советское время был на комсомольской и партийной работе, 50 лет. Радикально обновив систему управления, оборудование и ассортимент находившегося в кризисном состоянии комбината, превратил его в процветающее предприятие. Исповедует принцип: «Не верь, не бойся, не проси». Предпочитает быть «с меньшинством» ~ с теми, чьи «идеи, подходы, решения» большинство сначала не понимает, а потом, когда идеи побеждают, их сторонники сами становятся большинством. Ценности: независимость, профессиональный успех, но не максимальный, а предполагающий «уклонение от крайностей в выборе целей, отказ от стремления к сверхуспеху, который требует участия в «крысиных гонках», ...я не готов любыми путями вырываться из обстоятельств». Считает, что ценен такой успех, который является показателем профессионализма, хотя он и должен выражаться в доходах (как на Западе) [4, с. 63~65].
Издатель и редактор газеты, доктор философских наук, 61 год. Ценности: свобода, индивидуализм, материальная обеспеченность, которую журналист считает условием свободы («у человека неимущего степеней свободы почти нет»). Но, относя себя к интеллигенции, полагает, что «интеллигент может стремиться стать человеком среднего класса...не за счет утраты всего, что делает его интеллигентом». И далее пишет: «Надо жить, а не служить делу. А если твое дело оказывается твоим жизненным интересом, это и есть жизнь: ты живешь в деле, но ради приличия называешь жизнь делом». Иными словами, главная ценность ~ это личная самореализация, которая естественно, а не в силу каких-либо высших нормативных принципов, находит свое воплощение в «деле» ~ в профессиональной деятельности. Понятию успеха применительно к себе лично предпочитает слово «достижения», имеющее более «внутренний» психологический смысл: нравственная удовлетворенность, «большое согласие с самим собой». В этой удовлетворенности сливаются профессиональные и этические мотивы: «Я работаю ~ меня слышат. В профессии это успех... Журналистика ~ это профессия, в которой принципы морали очень тесно связаны и с процессом, и с конечной продукцией...» Требование соблюдения профессиональной этики ~ одно из главных, которое редактор предъявляет своим сотрудникам [4, с. 87~99].
Директор моторного завода (с 1983 года), 62 года. Ценности: «можно сказать, что я живу своим делом... Я не ставил себе специальной задачи сделать карьеру, карьера складывалась сама, попутно ~ в решении моих производственных задач».
Другие ценности: уважение к нормам общества, порядок, умеренность в целях и средствах, «я не стремлюсь взрывать не зависящие от меня условия, стараюсь найти свою ячейку в новой ситуации и там продвинуться в решении своей задачи, но не веду себя как Дон-Кихот, сражавшийся с мельницами... Я не хочу быть бедным и не беден...но не стремлюсь и в число очень богатых... Я иду на конфликты только по острой необходимости..., пытаюсь найти компромисс». Для респондента также очень важен социально-моральный аспект профессионального успеха, который он формулирует так: «Вот одно из моих правил, через которое, считаю, нельзя переступать никоим образом: главным источником личного успеха является успех коллектива твоего предприятия». В тяжелых для машиностроительной промышленности условиях 1990-х годов директору удалось не только спасти завод, но и добиться двадцатипроцентного подъема, превратить его в рентабельное рыночное предприятие [4, с. 101~102].
Профессор-медик, директор Кардиологического центра, 43 года. «Созидание, ~ считает профессор, ~ вот смысл твоего дела». Но в нынешних российских условиях руководитель учреждения должен решать не только профессиональные, но и «государственные проблемы»: «...если сегодня в нашей стране еще что-то остается и держится, то только потому, что люди на местах решают государственные проблемы. За счет таких, еще сохранившихся «кирпичиков» в стране, в нашей медицине, науке еще что-то осталось». Профессор считает, что в качестве профессионала и руководителя «реализовал себя как личность. У меня есть чувство самодостаточности в этом смысле... Основное дело, которому я посвятил себя здесь, в Тюмени, ~ наш Кардиоцентр, удалось...удержать наше учреждение от развала, развивать науку, сохранить профессионалов, внедрить новые клинические методики, причем...не за счет госбюджета, а практически за счет внутренних источников».
Профессиональные, творческие ценности и профессиональный успех респондент интерпретирует как достижение «в своем деле каких-то стандартов, определенного уровня в своей профессии». Эти ценности для него главные, но он не противопоставляет их ценностям материальным: для меня нет морального противоречия в том, что к интеллигенту...приходят те атрибуты успеха, которые сегодня связаны с бизнесом... Для меня важно получать материальные блага через успех дела, которому ты служишь» [4, с. 111~122].
Ректор Тюменского нефтегазового университета, 46 лет. Главная ценность ректора ~ профессионализм, который он понимает как «состояние души, полная реализация внутренних возможностей, дарованных человеку родителями, школой, вузом и т.д.... Методология формирования профессионализма такова: ставить перед собой достижимые цели, а когда они реализованы, снова двигаться вперед». В профессионализме должны сочетаться индивидуальные и социальные мотивы: «Профессионал находит удовлетворение в том, что он умеет делать свое дело лучше, чем другие, но не менее важно, чтобы профессионализм как ценность...был ориентирован на общественное благо». У ректора двадцать собственных изобретений в его профессиональной области (строительные и дорожные машины) «на уровне мировой новизны...уж этого никто у меня не отнимет». А как руководитель он решает задачу «университизации» бывшего индустриального института, превращения его в «уникальное высшее учебное заведение», дающее студенту широкую фундаментальную, в том числе гуманитарную, подготовку, которая позволяет ему «с учетом потребностей рынка и своих личных возможностей...осознанно выбрать...послевузовскую специализацию». И в то же время ~ внедрить «рыночные» элементы в функционирование и организацию университета.
Ректор ~ сторонник концепции «корпоративности», основанной на «принципе достижения индивидуального успеха, когда сложение успехов каждого дает дополнительный эффект». Он убежден, что СССР проиграл в экономическом соревновании с капитализмом потому, что «70 лет игнорировали в человеке личность, отторгали индивидуальный интерес». Личный успех для него ~ «это экономическое преуспевание и личное творческое благополучие»: материальный достаток семьи создает «определенную ауру, душевный комфорт, что в свою очередь позволяет заниматься мне интересной работой», и в то же время ~ что ректор также считает важным ~ «соответствовать определенным нормам» образа жизни и материального потребления (а не одеваться «просто, как бог послал») [4, с. 122~141].
Глава администрации Тюмени, 50 лет. «Пытаясь очень кратко определить для себя, что такое работа главы города, я пришел к выводу, что это прежде всего необходимость понимания и реализации интересов всех, живущих в этом городе». Мэр ставит перед собой задачу «сориентировать стратегию развития Тюмени на социальные цели... Служение жителям города стало моим призванием». Рассуждая о проблеме ценностей, он выступает в защиту ценностей «обывательских, мещанских, буржуазных», против их противопоставления ценностям «интеллигентским», самоотверженности и героизму. «Надо стремиться, ~ пишет он, ~ чтобы как можно больше людей ценили повседневную жизнь, благополучие своих близких и т.п. И вряд ли уместно считать это некоей ограниченностью». А важнейшее для себя правило жизни общества он формулирует так: «Не мешай сильному, но помогай слабому» [4, с. 142~158].
Хирург, до 1999 года ~ заведующий горздравом, подал в отставку с этого поста «в связи с несогласием с политикой областных инстанций в сфере здравоохранения» и перешел работать в медицинскую академию, 49 лет. Смысл своей административной работы видит в том, чтобы «найти оптимальные способы разрешения целого ряда противоречий, объективно существующих в нашей медицине, ...чтобы максимально приблизить огромные возможности современной медицины к возможностям конкретного врача... И мы нашли способы, с помощью которых конкретный врач может опереться на всю систему знания ~ через предоставление ему компьютерных помощников, через рационализацию работы врача с помощью экспертной базы, системы искусственного интеллекта». С этой целью была создана «специальная научно-внедренческая структура, ...которая реализовывала наши идеи». Заведующий горздравом ушел в отставку из-за «серьезного идейного конфликта» с властями: «мне сказали, что я могу выполнять только одну работу ~ распределять выделенные сверху «три рубля». Причем мне еще и укажут, куда и как их распределять. Так что сиди и подписывай бумаги. Разумеется, меня это не устроило».
Профессионализм, по мнению врача, «предполагает способность рационально оценивать дело, которым ты занимаешься. Дело, в котором ты должен быть одновременно и менеджером, и общественным деятелем, и инноватором как в теории, так и во внедренческой практике». И с другой стороны, ~ служение людям. В медицину идут те, которые понимают, ...что зарплата будет маленькая. И все же идут, потому что у них либо генетическая, либо благоприобретенная...потребность испытывать удовлетворение оттого, что человеку оказана помощь. Именно за это врач уважает себя, идентифицирует себя с успешным человеком» [4, с. 159~168].
Журналист, президент телерадиокомпании ГТРК «Регион-Тюмень», 53 года. «Если уж искать самоидентификации, то я хотел бы назвать себя профессионалом... Самоотверженность ...энтузиазм ~ это необходимая составная любого профессионализма...быть профессионалом ~ жить по внутреннему убеждению, а не по кодексу законов о труде».
«Я поклонник успеха. На мой взгляд ...человек должен быть успешным... Его стремление к успеху нормально, если он не стремится к нему, значит, он не стремится ни к какой цели, он ~ амеба».
«Я не человек стаи ...считаю себя нестандартным человеком... Сегодня по своей должности я чиновник. Но не думаю, что веду себя как стандартный чиновник ~ не встаю навытяжку, не подпеваю вышестоящим с подобострастием. Скорее наоборот, и это портит мне чиновничью службу».
«Думаю, что стремление к достатку, желание получше обустроить свою жизнь ~ это необходимое условие для любого человека, который хотел бы в чем-то себя проявить... Только заботясь о своем интересе, можно что-то сделать для других».
«Наша компания исповедует три основополагающих принципа ~ информация, развлечение, размышление (осмысление или утешение)... Мы должны давать достаточно объективную информацию, предлагать взвешенные передачи, с провинциальным российским основательным спокойствием».
«На абстрактном уровне я считаю, что бедный духом, бедный волей достоин своей участи. И лучше бы в отношениях с ним быть безжалостным, потому что жалость губит, разлагает». На практике президент компании стремится создать сильным сотрудникам условия для развития, а слабым «дать возможность для достойной жизни». Ибо полагает, что необходимо «по-самаритянски относиться к тому, кого Бог... обделил или обидел» [4, с. 181~192].
Директор лицея, преподавательница иностранных языков, 46 лет. Респондентка не углубляется в абстрактные рассуждения о профессионализме, успехе, ценностях и т.д. и предпочитает просто рассказать о деле, которым занимается всю «жизнь, о некоторых его принципах. О деле, которое я много лет создавала и не променяю ни на какие карьерные варианты». Это рассказ о новых методах обучения, о налаженном директором обмене учителями и учениками со школой из американского штата Айовы, о том, как в ее лицее была создана атмосфера, которая побуждает ребенка «бежать в школу в субботу и воскресенье». «Самая большая радость, ~ пишет педагог, ~ когда ты видишь успехи ребенка, то, как он превзошел и наши ожидания, и свои собственные, потому что ты смог вовремя помочь ему. Это создает твое настроение, порождает новую энергию, ты веришь, что сможешь сделать в два раза больше» [4, с. 201~203].
Заместитель губернатора по социальным вопросам, в прошлом секретарь горкома ВЛКСМ, 40 лет. В постсоветский период занимался разработкой областной молодежной политики, возглавлял Комитет по делам молодежи, осуществивший ряд проектов по организации трудовой занятости молодежи и подростков, социальной адаптации подростков, создавший областной детский центр «Ребячья республика» и т.д. О своей работе, в частности, пишет, что ее успех обеспечил «подбор людей, работающих не только за зарплату, но и чуть больше. Людей, увлеченных идеями. Не эфемерными... а конкретными. И наша команда давала возможность всем нам раскрываться. Особенность команды заключалась и в том, что здесь сочетались интересы личности и коллектива... Я считаю, что коллектив ~ это личность в коллективе».
Заместитель губернатора полагает, что в современных условиях в работе надо проявлять «прагматизм, практичность, может быть, даже жесткую... искать рациональные решения» [4, с. 210~220].
Проректор университета по учебной работе, по специашльности юрист, в прошлом первый секретарь обкома ВЛКСМ, 51 год. «Успешный профессионал ~ это человек, который постоянно стремится к успеху в своем деле, который не может не прочитать привычную лекцию по-новому, с учетом современных веяний, подходов. Постоянное намерение не отстать от жизни, осмыслить современность, внедрить новые методы и т.п. позволяют профессионалу оставаться подлинным профессионалом». Проректор создал электронный учебник конституционного права, Центр регионального и муниципального нормотворчества, разрабатывающий законы для органов местной власти, Высшую школу муниципальной службы [4, с. 225~232].
Геолог, доктор наук, директор Центра рационального недропользования Ханты-Мансийского автономного округа, 58 лет. Самоидентификация: «патриот, стремящийся созидать... создавать нечто позитивное». Считает, что, хотя рыночные подходы изменили требования, предъявляемые к его профессии, «если человек отлично владеет своей профессией, то попытки заставить его осваивать еще и бизнес никак не могут улучшить уровень профессионализма... Мир, в основном, состоит из работников наемного труда, а не из бизнесменов... Профессионал всегда получает радость от своей работы. В ней он удовлетворяет свои творческие инстинкты [4, с. 233~248].
Бизнесмен, руководитель концерна, по специальности химик, доктор наук, до 1991 года декан химического факультета, 48 лет. Сменил профессию под влиянием ухудшающегося положения науки и ученых в России и под впечатлением посещения западных научных центров. Решил «попробовать себя в созидательном деле, требующем и организаторских способностей, и работы мозгами, и умения решать нетривиальные задачи», испытать таким образом свои способности. Создал команду из интеллектуалов: научных сотрудников, преподавателей. Свою цель видит в развитии цивилизованного частного бизнеса, способного к развитию, к созданию новых рабочих мест.
Респондент полагает, что в российских условиях бессмысленно говорить о какой-то «модели успеха»: «успех у нас имеет... не осмысленный, а случайный характер... Успех бизнесмена? По восемнадцать часов пахать, не будучи уверенным, что завтра все будет нормально... То, что сегодня происходит с так называемыми «успешными людьми», нельзя даже близко отнести к ситуации успеха... Мы, к сожалению, заложники ситуации» [4, с. 248~257].
* * *
Прежде чем приступить к конкретному анализу «рефлексивных биографий» представителей тюменской элиты, необходимо оценить познавательную значимость этого источника, в том числе его репрезентативность. Здесь важно учитывать специфику целей исследования, предпринятого опубликовавшими их социологами. Помимо сопутствующих публикации комментариев [4, с. 263~272], В.И. Бакштановский и Ю.В. Согомонов год спустя опубликовали по тем же материалам отдельную монографию [5]. В ней они весьма обстоятельно раскрыли особенности своего подхода к проблематике среднего класса. Суть этого подхода выражена в заглавии книги: авторов интересует прежде всего этос среднего класса, который они понимают как промежуточный уровень между реальной практикой («пестрыми нравами») и моралью, между сущим и должным. Этос репрезентирует «лишь реально-должное», воплощается в «некоторых социокультурных практиках», для которых характерно «добровольное подчинение определенным моральным требованиям», благодаря чему данные практики возвышаются над уровнем повседневности, над «средним уровнем моральной порядочности». Авторы отдают себе отчет в том, что «современный этос российского среднего класса...еще не успел сложиться в такой мере, когда можно было бы описывать его с достаточной категоричностью, ...скорее подлежит угадыванию, а не решительной констатации». В такой ситуации наиболее правильным методом исследования этого этоса они считают построение его концептуальной нормативной модели и использование для этого тактики «восхождения от теории...к социальному «феномену», а также элементов научной интуиции и «социального воображения». Такая модель «в каком-то смысле предшествует созданию внушительного банка данных эмпирического свойства о среднем классе».
Здесь не место анализировать предложенную методологию, рассматривать ряд обосновывающих и конкретизирующих ее весьма интересных соображений. Выражу лишь самое общее отношение к ней. Полагаю, что концепция Бакштановского и Согомолова, восходящая, скорее, к философии и этике, чем к социологии или психологии, обосновывает один из возможных путей анализа феномена среднего класса, что не исключает необходимости других путей, ~ таких, которые предполагают восхождение «от эмпирии к абстрактному». Для нас здесь важно другое. Поскольку данную концепцию отличает нормативный подход, авторы изучают скорее «реально-должное», чем сущее, их должен интересовать не столько весь «эмпирический» средний класс (или классы, слои, группы, условно-метафорически объединяемые этим названием), сколько, по их собственному определению, «продвинутые в духовном отношении группы» [5, c. 37~41]. Естественно, что этот интерес не мог не влиять на отбор респондентов для «рефлективных биографий». Скорее всего, авторы исследований не руководствовались стандартными принципами составления выборки, используемыми в эмпирической социологии, но просто привлекли людей, известных своими положительными деловыми, профессиональными и моральными качествами, проще говоря ~ людей хороших и интересных. Такой принцип отбора был обусловлен не только интересами конструирования «нормативной модели», но и исходной установкой авторов. Они выявляли такую социальную группу, которая не принадлежа к массе «бедных», не исповедовала в то же время «агрессивно-циничной парадигмы идеи успеха», присущей «новым русским», разделяла бы «идеалы и ценности ответственной этики успеха» [5, c. 7]. Людей с такой «парадигмой» среди авторов рефлексивных биографий нет, хотя вряд ли можно сомневаться в том, что они не столь уж редки в богатом и славном городе Тюмени.
Понятно, что в этих условиях не может быть и речи о какой-либо статистической репрезентативности авторов биографий. Ослабляет ли это обстоятельство их познавательную ценность? Ни в коей мере. Ведь сам факт, что такие люди, как они, существуют и действуют, и действуют в качестве ключевых фигур ряда городских хозяйственных, административных, образовательных, медиатических и т.д. структур, сам по себе чрезвычайно важен. Ибо он показывает, что в составе элит, выделяемых по статусно-иерархическому признаку, есть люди, которых можно отнести к элите в первичном смысле слова, т.е. к «избранным», «лучшим». Этот факт подтверждает, что предлагаемая исследователями нормативная модель ~ не только плод научной интуиции и «социального воображения», но нечто, так или иначе присутствующее в психологии и поведении реальных индивидов.
Один из комментаторов биографий, Г.С. Батыгин, ставя фактически ту же проблему ~ адекватности данного источника, но не с количественной, а качественной стороны, цитирует в связи с этим Ж.-Ж. Руссо, который считал, что человек, описывая свою жизнь, «показывает себя таким, каким ему хочется предстать перед людьми, а вовсе не таким, каков он в действительности» [6, с. 258]. Эта существенная оговорка, кстати, в равной мере относится и к нашим углубленным интервью, не снижает значения подобных самообразов, коммуницируемых другим людям. Ведь через них человек так или иначе повествует о том, каким ему хотелось бы быть, описывает свою личную «нормативную модель», в той или иной мере воздействующую, пусть не всегда и не полностью, на его реальное поведение. К тому же, тюменские респонденты пишут не только о своих жизненных принципах, но еще больше о конкретных делах, несомненно, известных в городе и верифицируемых их собеседниками-социологами и местными читателями, а некоторые биографии вообще не вызывают никаких сомнений в их полной достоверности.
Как же социальные, ментальные, психологические характеристики этих представителей региональной элиты соотносятся с теми, которые мы обнаружили у рядовых людей среднего класса?
Первое, что бросается в глаза при сравнении двух контингентов, ~ более высокий средний возраст тюменских респондентов: среди них преобладают люди старшего среднего и старшего возрастов и лишь один моложе 40 лет. Остается гадать, объясняется ли это обстоятельство чистой случайностью, или в составе городских элит не нашлось более молодых мужчин и женщин, что правдоподобно. Возможна, наконец, и такая гипотеза: молодых носителей элитного статуса в Тюмени хватает, но среди них легче найти «крутых» представителей «агрессивно-циничной парадигмы», чем тех, кто представляет, говоря словами исследователей, «этически полноценную идею профессионального успеха».
Так или иначе, тюменцы, с которыми нас знакомят рефлексивные биографии, в большинстве своем в силу своего возраста ~ выходцы из старого советского среднего класса, в том числе из его «элитных» слоев ~ директоров промышленных предприятий, представителей региональной партийной, комсомольской, правоохранительной номенклатуры. При этом часть их ~ врачи, педагоги, работники вузов и научных учреждений ~ не испытали существенных изменений в своем профессиональном статусе и продолжают, по принятой нами терминологии, входить в «старые» средние слои. Другие ~ руководители работающих «на рынок» предприятий, управленцы областного и городского уровней; в некоторых случаях, повысив иерархический статус, но не изменив принципиально сферы профессиональной деятельности, они столкнулись с проблемой адаптации к совершенно новым институциональным (социально-экономическим, политическим) условиям и «правилам игры». Третьи перешли из одних элит в другие (например, мэр, бывший ранее крупным управленцем-железнодорожником). Лишь меньшинство приобрело совершенно новые «постсоветские» статусы ~ бизнесмена, публичного политика, редактора независимого органа прессы ~ и вошло в «новый» средний класс. Эти примеры показывают как многообразие путей формирования постсоветских элит, так и весьма высокий уровень их преемственности по отношению к элитам советским.
Нельзя не заметить, что состав данного элитного контингента и его внутренняя дифференциация кое в чем напоминают соотношения в выборке считающих себя успешными рядовых «среднеклассовых оптимистов». То же подавляющее преобладание наемных специалистов над предпринимателями, то же различие в социальном самочувствии между первыми и вторыми: специалисты и наемные менеджеры чувствуют себя увереннее, чем средние и мелкие бизнесмены. Очевидно, некриминальному бизнесмену значительно труднее завоевать прочные позиции в любом слое среднего класса, чем представителю более традиционных занятий, опирающемуся на связи с давно сложившимися профессиональными структурами.
Эти генетические связи нынешних элит побуждают их представителей рассматривать свое социальное качество профессионалов как совершенно независимое от рыночных трансформаций. Этот мотив звучит во многих биографиях, а в некоторых из них акцентируется с особым пафосом: «Профессионал 60-х ~ 70-х годов ничем существенным не отличался и от сегодняшнего профессионала и от того, который будет завтра» [4, с. 237]. Эта позиция кажется во многом рациональной ~ в особенности, поскольку речь идет о профессиях, не связанных прямо с работой «на рынок» или подчиненных социально-гуманитарным целям (врача, учителя). Психологически понятно, что, люди, которые приобрели свою профессиональную квалификацию в советское время, отталкиваются от угрозы ее обесценивания в новых условиях. Однако они не учитывают, что при всей ценности приобретенных ими ранее знаний и умения сдвиги в социетальной экономической и политической среде не только предъявляют новые, более жесткие требования к любой профессиональной деятельности, но порождают новые «правила игры», создают во многом принципиально новые условия и возможности приумножения и реализации этих знаний, развития творческого потенциала человека.
Некоторые респонденты это хорошо понимают. В первую очередь, естественно, те, кто выполняет менеджерские функции в экономических организациях. «Профессионализм того времени, ~ пишет, например, директор моторного завода, пришедший на эту должность еще в 1983 году, ~ был главным образом сосредоточен на том, чтобы профессионально выполнить уже поставленную «сверху» задачу. А сегодня для меня главное ~ применить профессиональные знания и навыки для того, чтобы самому себе правильно поставить задачу в условиях постоянно меняющейся ситуации». А врач, резко осуждающий государственную политику в области здравоохранения и ушедший из-за этого с поста заведующего горздравотделом, тем не менее, утверждает: «Сравнивая советское время и постсоветское, могу сказать, что для профессионального успеха постстоветское время более благоприятно. Благоприятно уже потому, что дало больше возможностей ~ проводить в жизнь собственную позицию, выстраданную и в научном поиске, и в опыте. Свобода реализации собственных идей и подходов без оглядки на чиновные партийные запреты ~ особенность нашего времени» [4, с. 103, 166].
В целом анализ биографий представителей тюменской элиты позволяет утверждать, что почти все они так или иначе сумели использовать экономическую и политическую либерализацию для более широкой и разносторонней реализации своего творческого потенциала, завоевав или утвердив тем самым свой элитный статус. Вместе с тем, чувство преемственности по отношению к прошлому опыту отражает стабильность ценностного ядра личности профессионала, его верность самому себе ~ стабильность, которая, как справедливо отмечает Батыгин, включена во «внутренние механизмы воспроизводства социальных институтов независимо от политических и идеологических ценностей» [6, с. 261].
Институты, которые имеет в виду комментатор, это, разумеется, не институциональная система «реального социализма». Скорее, это ценностно-нормативный институционализированный компонент культуры (или, точнее, одной из субкультур русского социума), предшествовавший этой системе, сосуществовавший, но не сливавшийся с ней, частично имплицитно ей сопротивлявшийся и ее переживший. Речь идет, как уже догадался читатель, о ценностях и нормах русской интеллигенции. Многие авторы рефлексивных биографий предпочитают, как отмечалось в первой главе книги, идентифицировать себя не со средним классом, а с интеллигенцией. И это не просто выбор более привычного и ясного понятия, но и утверждение верности традиции. Те, кто является потомственными интеллигентами, прямо говорят о традиции семейной, но не менее значима она и для интеллигентов в первом поколении. Как, например, для ректора института, дочери сапожника, которая одновременно модернизирует понятие интеллигента, видя в нем прежде всего «человека дела» и ищет исторические аргументы для такого понимания в традициях русской интеллигенции: «...вспомним народников, нести знание, просвещение ~ это тоже очень важное дело».
Формула «человек дела» явно расходится с тоже достаточно традиционными критическими (и самокритичными) представлениями о практической беспомощности, бездеятельности, бесплодном идеализме интеллигенции и имплицитно выражает полемику с ними. Но здесь важно, что стремление «осовременить» ее образ прочно увязано с императивом верности ее традициям. Такая позиция, естественно, более характерна для представителей традиционных интеллигентских профессий ~ ученых, преподавателей, врачей, журналистов. Но ту же «интеллигентскую» систему ценностей, ту же иерархию мотивов в основном разделяют и респонденты, с такими профессиями не связанные, ~ чиновники, управленцы, политики, бизнесмены. Отличает их, возможно, лишь более акцентированный прагматизм, больший удельный вес «инструментальных» мотивов ~ внимание к «технологии» достижения профессиональных целей. Эти различия в акцентах ~ в большем тяготении к традиции или к постсоветскому модерну ~ находят свое выражение в социальной самоидентификации или с интеллигенцией, или с профессионалами, или со средним классом.
Каковы же основные характеристики этой системы ценностей и мотивов? О ней много и хорошо сказано исследователями-комментаторами биографий. «Во всех...биографиях, ~ констатирует Батыгин, ~ в качестве основной ценности акцентируется свобода жизненного самоопределения... Само движение вперед составляет смысл существования» [6, c. 258, 259]. Самореализация в творческой профессиональной деятельности ~ доминирующая личностная потребность этих представителей региональной элиты, все другие мотивы и ценности так или иначе детерминируются ею или с ней коррелируются. Таковы ценности профессионализма, свободы, успеха, понимаемого, прежде всего, не как успех, измеряемый показателями формальной карьеры или дохода, но как успех в своем профессиональном деле. Можно согласиться с тезисом комментаторов биографий о том, что их авторам свойственна мотивация достижения, но речь должна идти о специфической разновидности этой мотивации, суть которой в удовлетворении, получаемом от самого процесса профессиональной деятельности («вознаграждение трудом»), от решения возникающих в ее ходе задач. Производными от этой базовой мотивации являются такие черты психического склада авторов биографий, как «трудоголизм», стремление к независимости, чувство самодостаточности, питаемое успешной профессиональной деятельностью.
Вторая сторона этой системы ценностей ~ ее социально-этическое начало. Для авторов биографий важно, чтобы соблюдались такие моральные нормы, как честность, порядочность, гуманизм, сострадание, внимание к нуждам отдельных людей и социальных слоев ~ тех, кто потерпел неудачу в жесткой конкурентной борьбе, кто не в состоянии в силу объективных или субъективных причин занять средние позиции в новой иерархии материальных и социальных статусов. Во многих биографиях звучит резкое осуждение явлений аморальности в российском социуме, особенно в деловом мире: авторы как бы отмежевываются от «агрессивно-циничного» поведения «новых русских», присущего им гипертрофированного эгоизма. Характерно, что единственный среди них действующий бизнесмен считает своей жизненной целью борьбу за честный бизнес.
Все это тоже находится в русле интеллигентских традиций. Так же, как и весьма важная для авторов биографий ценность социальной ответственности, норма «служения» людям, обществу, акцентируемая или неразрывная связь между этой нормой и собственной профессиональной деятельностью. Очевидно, именно это этическое начало в ценностях тюменской элиты дало основание Бакштановскому и Согомонову использовать рефлексивные биографии для обоснования и развития разрабатываемой ими «этики успеха», постулирующей «нравственную значимость» «стремления к достижению» [5, c. 155 (. также журнал «Этика успеха», выходивший в Тюмени в 1990-х годах.)].
Возникает вопрос: каким образом эти черты психического склада и мировоззрения авторов биографий связаны с их элитным статусом? Является ли повторяемость этих черт закономерной, обусловленной востребованностью на данном уровне региональной жизни именно таких людей? Или все объясняется просто принципом отбора респондентов, предопределенным целями и методами исследования. Чтобы обоснованно ответить на эти вопросы, надо специально изучить механизмы вертикальной социальной мобильности в России вообще, в данном регионе и городе ~ в особенности.
Один из авторов ~ бывший прокурор, ныне судья, говорит о них так: «...у нас можно сделать карьеру и без признаков профессионализма. Имей «волосатую руку», используй стечение обстоятельств, катаклизмы, постигшие наше общество, будь удобным какому-то чиновнику, подсласти, лизни в ситуации, в которой профессионал бы гавкнул...и попадешь на высокое кресло». Но себя он относит к людям, «достигшим стабильной позиции в жизни именно благодаря своему профессионализму, реализовавшим себя через профессионализм и поэтому достигшим известной жизненной независимости... За теми достижениями, которые можно увидеть в моем деле, никогда не было ни «волосатых рук», ни высокопоставленных ходатаев» [4, с. 13, 15]. Очевидно, бывает и так, и так: даже самая коррумпированная и разболтанная институциональная организация не может вовсе обойтись без подлинных профессионалов и людей, внушающих доверие к их нравственным качествам. Так что професcионализм, сильная достижительная мотивация вкупе с отмеченными выше ее социально-этическими аспектами, возможно, сыграли свою роль в социальном возвышении авторов биографий.
Несомненно, эта мотивация делает представителей данного элитного слоя принципиальными индивидуалистами. Творческое отношение к профессии, доминирование потребности в самореализации немыслимо без индивидуальной автономии, без стремления к индивидуальному выделению из группы. Авторы биографий охотно развивают тему индивидуальности, автономии личности профессионала, осуждают нивелирование, обезличивание, принцип «не высовывайся», присущие «социалистическому коллективизму». И в то же время стремятся совместить индивидуальную автономию с интеллигентской традицией «служения людям», с социальной ориентацией индивидуальной самореализации. Один из них даже строит собственную теорию «корпоративности», призванную в идеале совместить индивидуальное и социальное начала достижительной мотивации. Так что речь идет не об агрессивно-хищническом, стяжательском, но о конструктивном, социально ориентированном (по выражению И.М. Клямкина, «либеральном») индивидуализме.
В данном контексте есть основание согласиться с предположением Бакштановского и Согомонова, что «индивидуализм современного «экономического человека» не может стать краеугольным камнем становящегося этоса российского среднего класса...без сочетания с ориентацией на солидаризм» [5, с. 134].
Все эти черты региональной элиты сближают ее социально и психологически с теми рядовыми людьми среднего класса, с которыми мы познакомились в предшествующих главах: учеными, врачами, преподавателями, низшими менеджерами. Массовидный и представленный в наших интервью тип «экономического человека», измеряющего свой успех в жизни главным образом денежным доходом, среди авторов биографий не встречается. Вероятно, это объясняется отмеченными выше особенностями тюменского исследования. Тем не менее, именно в данном пункте ~ роли в личной мотивации материально-денежных целей и ценностей ~ между элитными и неэлитными людьми среднего класса обнаруживается заметное различие.
Речь идет, в сущности, о различии в хабитусах. Более бедные рядовые респонденты наших интервью говорят о желании зарабатывать больше денег, чтобы удовлетворять свои потребности, в частности, чтобы более полно, без помех отдавать свои силы и время профессиональному творчеству. Или мирятся со скромностью своих доходов, «подгоняя потребности к возможностям». Для представителей элитного слоя вопрос так не стоит. Будучи людьми обеспеченными, обладая, как правило, «машиной, дачей, квартирой», они, скорее, отстаивают свое право на обеспеченность, на «буржуазность», как говорится в нескольких биографиях, видят в ней самостоятельную ценность, символ своего «среднеклассового» социального статуса. Безусловно, эта ценность ~ не доминирующая; в их вербализуемой мотивационной иерархии она играет подчиненную роль по отношению к самореализации в профессиональной деятельности.
«Право на богатство», или материальный достаток выступает как существенный компонент группового («классового») сознания, которое, как отмечалось в первой главе, у представителей элитного слоя вообще развито значительно больше, чем у рядовых людей среднего класса. Понятно также, почему многие из них с особым рвением отстаивают это право: они сами с горечью говорят об осуждении, которое «успешные» люди вызывают в российском обществе, воспитанном в духе антибуржуазности и уравниловки, о моральном дискомфорте, который такие люди испытывают в этих условиях. Валоризация достатка, сближающая элитный слой среднего класса с западным прототипом, выражает его потребность в легитимации именно в качестве особой социальной группы. Эту борьбу за групповую легитимацию можно рассматривать как одно из проявлений авангардной, элитной роли данного слоя по отношению к классу в целом.
Еще более явно и значимо эта роль проявляется в том вкладе, который элитный слой вносит в модернизационный процесс. Одно из ключевых понятий, с помощью которых авторы рефлексивных биографий описывают свою профессиональную деятельность, ~ понятие «своего дела». Делом заняты и рядовые специалисты, и низшие управляющие, и предприниматели ~ участники наших интервью. Но дело у них редко имеет характер долгосрочного проекта, чаще оно представляет собой череду занятий, отбор которых определяется независящими от них обстоятельствами (требованиями организации, рыночным спросом и т.д.). Дело людей элиты ~ именно долгосрочный проект. Рентабельное промышленное предприятие, газета, телерадиокомпания, создание колледжа или института, реорганизация деятельности прокуратуры, системы здравоохранения или учреждения образования, бизнес-структура нового типа, система работы с молодежью и т.д., ~ проекты, в которые вовлечено много людей. В одних случаях масштаб дела определяется иерархическим статусом человека элиты. В других этот статус ~ непосредственное следствие осуществления проекта, инициативы его автора.
Важнейшая особенность этих проектов состоит в том, что они представляют собой планируемые социальные инновации. Планируемые по способам своего инициирования и осуществления, социальные потому, что они оказывают непосредстенное воздействие на различные сферы жизни регионального или городского сообщества: экономику, собственно социальную сферу, культуру, систему информации, производство «человеческого капитала». Коммуникативные связи авторов проектов совершенно очевидно охватывают этот городской или региональный масштаб, а не замыкаются, как у многих не принадлежащих к элите специалистов, в рамках своей организации или узкого круга партнеров и клиентов.
Установка на инновацию, на «движение вперед» так или иначе приумножающее достояние социума, ~ центральный смыслообразующий момент в мотивации авторов биографий. Они действительно целями и масштабностью своего дела стремятся «служить обществу», черпают в этом служении источник удовлетворения своей деятельностью, формирования своей «я-концепции». В этом смысле уровень их аспираций значительно превосходит тот, который мы наблюдали у многих специалистов более низкого статуса. И возвращаясь к вопросу о соотношении в их психологии индивидуалистических и социально-ориентированных тенденций, можно сказать, что смысл их индивидуализма, личных амбиций не противостоит интеграции в общность, он означает интеграцию в нее на основе максимизации собственной роли в социальном процессе. Иными словами, мотивационно и поведенчески эти люди нацелены на, если использовать формулу А. Турена, «производство общества».
Инновационная роль этих представителей региональной элиты не ограничивается их вкладом в развитие конкретных экономических и социальных структур. Как справедливо констатируют тюменские исследователи, они выступают в качестве «субъекта трансформации нормативно-ценностных систем» [5, с. 66]. Эта их роль тесно связана с отмеченным выше стремлением части из них к выработке собственного группового самосознания и «правил игры», собственной групповой субкультуры, отделяющей их как от основной массы населения, так и от тех, кого они относят к высшим стратам, подозреваемым в «крысиной гонке» за властью и богатством. Те, кто такого стремления не обнаруживает, в сущности, также относят себя к особой культурной и, в определенном смысле (прежде всего духовном), ~ к элитной группе, которую они обозначают понятием «интеллигенция». Именно их ведущая роль в трансформации норм и ценностей наиболее полно обнаруживает функции элиты как создателя и распространителя обновляющихся социальных образцов, и вместе с тем ~ их вклад в институционализацию этих образцов.
К этому следует добавить, что в обновляемую ими ценностно-нормативную систему более или менее отчетливо включается норма и ценность гражданской активности. Уже независимая от вышестоящих бюрократических инстанций инициатива реформирования таких сфер, как образование и здравоохранение, или создание независимого органа прессы, объединение вокруг этих инициатив каких-то групп людей, является первичным, элементарным выражением такой активности. Авторы некоторых биографий идут дальше: создают гражданские организации ~ законотворческие, профессиональные, предпринимательские, околополитические. Элита отличается от неэлиты, в частности, большим потенциалом гражданской активности, вкладом в формирование гражданского общества.
Подобное описание данной группы может вызвать у читателя законный вопрос: не идеализирует ли ее автор, не создает ли он некий однотипно светлый образ людей-«маяков», повторяющий ~ пусть с иных исходных ценностных позиций ~ памятную «методологию» советской прессы и литературы «социалистического реализма»? В оправдание я мог бы сослаться на неизбежную зависимость данного описания от источника, от того «нормативного подхода», на основе которого формировались тюменские рефлексивные биографии. Мне, например, хотелось бы услышать от их авторов ответ на вопрос, который мы задавали нашим респондентам: «Какие внутренние конфликты ценностей испытываете Вы в Вашей профессиональной деятельности?» Ведь человека, обладающего совестью и моралью, и свободного от таких конфликтов, представить довольно трудно, особенно если он руководит другими людьми, участвует в конкуренции или включен в бюрократическую структуру. Но этот вопрос тюменским респондентам, очевидно, не задавался.
Исследователи и сами честно признают подстерегающую их опасность идеализации своих героев, иногда этой опасности несколько «поддаются». Мне кажется, например, преувеличенным и трудно доказуемым утверждение Батыгина [6, с 262] о «приоритете общественного над личным» в этосе среднего класса: как показывают материалы биографий, речь может идти, скорее, о тенденции к гармонизации, согласованию этих начал.
Вообще, как хорошо известно, социологу крайне трудно верифицировать соотношение ценностей или нравственных принципов, вполне искренне вербализуемых людьми, с их реальным поведением, часто зависящим не только от этих принципов, но и от противоречивых жизненных ситуаций. Но при всех этих оговорках, образы, возникающие из рефлексивных биографий, отражают если не всю правду, то очень большую долю правды. Ведь главное в этих биографиях ~ дела авторов, очевидно, хорошо известные и местным социологам и вообще в городе, и, следовательно, в этой части биографии легко верифицируемы. Кроме того, хорошо продуманные и четко формулируемые ценности ~ это тоже социальная реальность, как вообще реальна духовная или ментальная сторона человеческой практики.
Характеризуя социальную практику представителей тюменской элиты как «производство общества», мы допустили, очевидно, определенное метафорическое преувеличение. Вернее было бы говорить о производстве общества на региональном уровне. Это уточнение возвращает нас к поставленному выше весьма существенному вопросу ~ как инновационная деятельность, осуществляемая на региональном уровне, воздействует на макроуровень, на инновационный процесс в масштабе всего российского социума. Для обоснованного ответа у нас недостаточно материала: для этого надо было бы специально исследовать как «горизонтальные» коммуникативные механизмы, связывающие представителей тюменской элиты с их коллегами, так и «вертикальные», транслирующие их инновации на высшие, федеральные уровни российской институциональной системы. Самое малое, что можно сказать по этому поводу, ~ это констатировать большую по сравнению с неэлитными слоями среднего класса способность его региональной элиты делегировать своих представителей на этот высший уровень. Пример депутата областной Думы, намеревающегося баллотироваться в Государственную Думу (впоследствии он действительно вошел в состав Госдумы, избранной в 1999 году), в этом отношении достаточно показателен.
Материал биографий позволяет также в какой-то мере представить позиции этой элиты по отношению к социально-политической действительности российского общества.
В целом авторы биографий в подавляющем большинстве не высказываются по общеполитическим вопросам ~ очевидно, это не предусматривалось планом исследования. В ряде биографий, правда, звучат мотивы критики в адрес бюрократических структур, создающих помехи авторам в их профессиональной деятельности, упоминается коррупция и другие пороки российской власти. Состояние имплицитной конфликтности с «системой» присутствует в биографиях, как и в наших углубленных интервью, но такого рода мотивы возникают как бы мимоходом: авторы больше нацелены на анализ собственной практики, чем на описание институциональной среды, в которой она развертывается.
Но дело не только в этой нацеленности. Умолчание в данном случае красноречиво: создается впечатление, что авторы биографий не особенно задумываются об эффекте своей профессиональной деятельности, выходящем за рамки собственного города или региона. Декларируемое ими служение обществу в основном, похоже, мыслится именно в этих рамках, то, что находится вне их ~ «большое общество», «большая политика» ~ не рассматривается как объект собственной социальной практики авторов.
Природа этой отчужденности от макроуровня просматривается в суждениях некоторых из них. «У нас в стране, ~ пишет руководитель геологической фирмы, ~ все время были, к сожалению, непрофессиональные политики и экономисты, которые изобретали первую модель хозрасчета, вторую модель, приватизацию и т.п. А сегодня делается попытка перенести на всех нас провалы непрофессионалов-политиков и экономистов за последние 20 лет, чтобы опять говорить: «Мы все едины». Нет, мы не едины, мы-то работаем профессионально, а професиональные политики работают безобразно» [4, с. 237]. Эту позицию «я делаю мое дело, а все остальное дело не мое» мы уже встречали у наших неэлитных респондентов. Бессилие или неспособность воздействовать на социетальную действительность рационализируется соображением о профессиональном разделении труда, как бы маскирующем объективную взаимозависимость всех сфер и уровней жизни общества.
Более развернуто высказывается другой респондент ~ ученый и бизнесмен: «Как корреспондируются, ~ спрашивает он самого себя, ~ твои представления о развитии...[твоего] успеха с той ситуацией, в которой находится страна? У меня нет готового ответа: мы, к сожалению, заложники ситуации. Абсолютно все россияне... Мне ясно одно: если полностью не сменится руководство страны на всех уровнях, за исключением некоторых, если не произойдет переоценка ценностей в рамках...демократического и цивилизованного стандарта..., то боюсь, что, при всех усилиях одиночек, перспективы у нашей страны нет. Это очень пессимистический прогноз, но есть и оптимистическая составляющая: я все-таки надеюсь, что такая переоценка произойдет. Не сейчас, но, может быть, через год, два, три» [4, с. 257].
На чем основана эта надежда и ее хронологические рамки, какие факторы или силы вызовут переоценку ценностей, бизнесмен не говорит. Может быть потому, что не знает, потому, что его представления о политике и обществе находятся в той же сфере когнитивного вакуума, что и большинства его сограждан. И потому, что собственная социальная практика, по всей видимости, кажется, ему разновидностью «усилий одиночек» и в его сознании отсутствует перспектива объединения этих одиноких усилий в общественную силу.
В целом анализ тюменских биографий раскрывает еще одну черту общности элиты среднего класса с его основной массой. И у элитных, и у неэлитных слоев преобладает своего рода «островное» сознание: действительность, которую они стремятся преобразовать, не выходит за рамки границ, определяемых их непосредственными статусными возможностями. У представителей элит «острова» (или «оазисы») значительно обширнее, чем у остальных, но тенденция к выходу в открытый океан (в «большое общество»), хотя бы воображаемому, хотя бы в принципе желательному, активно проявляется лишь у немногих. Они не готовы к инициированию или ангажированному участию в движениях, способных реализовать ощущаемый ими конфликт с существующей системой власти. Представители элиты среднего класса ~ несомненно, социальные акторы, но уровень развития их преобразовательного потенциала еще недостаточен для активного и целенаправленного воздействия на социетальную действительность.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключении этой книги я хотел бы прежде всего напомнить читателю об условности, даже метафоричности столь часто используемого в ней понятия «средний класс».
Определенная степень метафоричности, по-видимому, неизбежна, когда мы употребляем для описания российского общества, в частности его социально-групповой структуры, терминологию, заимствованную из научного и политического языка обществ, принципиально отличающихся от него своими цивилизационными, институциональными и структурными характеристиками, своим историческим опытом. Ибо в российском контексте эта терминология отражает не систему социальных образований, сложившуюся и утвердившуюся в своих основных чертах, но лишь некую, причем не обязательно единственную, тенденцию трансформационных процессов, последовавших за кризисом и крушением «реального социализма». Используя популярный ныне оборот речи, можно было бы также говорить о «как бы среднем классе», равно как и о российском «как бы капитализме», «как бы рынке», «как бы демократии», «как бы парламентаризме».
Если такого рода абстрактные социальные категории ~ это лишь условные и в российском контексте далеко не адекватные этикетки реальных социальных или политических феноменов, то люди, эти феномены представляющие, например, российские капиталисты или парламентарии, обладают всей реальностью живых человеческих существ. Живые люди ~ это также и те, кого в рассуждениях о российском обществе по тем или иным основаниям относят к реальному или потенциальному, к «объективному» или «субъективному», подлинному или квазисреднему классу. Если о российском среднем классе как о какой-то вполне определенной социальной реальности говорить сегодня еще довольно трудно, то узнать и попытаться понять людей (индивидов), по каким-то признакам идентифицируемых или идентифицирующих себя со «средней» частью общества, ~ задача, в общем, разрешимая. Это простое соображение объясняет и название данной книги, и принцип отбора материала.
Другое соображение ~ познавательные преимущества «методологического индивидуализма». Они особенно очевидны в условиях современного российского социума, где индивидуальные жизненные стратегии и практики обладают высоким уровнем автономии по отношению к слабым и аморфным социальным институтам и нормам и где поэтому самодетерминации индивидов принадлежит относительно большая роль в процессах, воспроизводящих и производящих общество (по терминологии А. Турена).
В начале работы уже говорилось, что избранная исследовательская стратегия не претендует на какую-либо статистическую репрезентативность: в ее рамках невозможно количественно определить распространенность или уровень типичности выявляемых феноменов и тенденций. В качестве «героев» мы отбирали людей, которые по объективным (статус, профессия) и субъективным (психологическая адаптация к трансформациям) характеристикам предположительно могли обладать модернизационным ресурсом. В результате исследования мы не можем сказать, каков в российском обществе в целом или в отдельных его слоях и группах удельный вес индивидов, проявляющих в своей практике (в тех или и иных конкретных формах) реальность этого ресурса. Самое большее, что мы можем утверждать ~ такие люди есть, и они представляют собой не какое-то редкое исключение, а образуют хотя и меньшинство, но более или менее значительное. Мы можем также выделить некоторые особенности их внутреннего мира и жизненной активности, имеющие модернизационный эффект. А также констатировать, что эти выводы, по меньшей мере, не противоречат репрезентативным данным, полученным в ходе квантитативно ориентированных социологических исследований.
И эти исследования, и наши собственные наблюдения подтверждают, что выделенный по каким бы то ни было признакам реальный или потенциальный средний класс не представляет собой какого-либо единого социального образования. Это всего лишь масса «не особенно богатых, и не особенно бедных» людей и групп, глубоко дифференцированная в экономическом, социальном, культурном и психологическом отношениях. С точки зрения осуществляемых ими жизненных стратегий наиболее значимая дифференциация обнаруживается по уровню адаптации к постсоциалистической действительности. Сформулированный выше принцип отбора респондентов привел к тому, что в центре нашего внимания оказались люди с более или менее высоким уровнем адаптации. Но данная их особенность, как оказалось, вовсе не стирает достаточно глубоких психологических и поведенческих различий даже внутри этого адаптированного меньшинства. В одних случаях мы наблюдаем практическую адаптацию, более или менее успешное материальное и социальное выживание при угнетенном психическом состоянии, крайне дискомфортных психологических отношениях с социальной действительностью. В других случаях ~ при низком уровне практической адаптации, бедной и крайне трудной жизни поддерживается высокий уровень психологической адаптации, достигаемый за счет предельного занижения уровня потребностей. Есть и люди, у которых позитивное социальное самочувствие, оптимистический настрой вполне гармонически коррелируются с реальным материальным и социальным статусом.
При всех этих различиях успешная адаптация (в тех или иных ее формах) к трансформирующейся действительности сама по себе создает существенный модернизационный эффект. Он выражается в процессе, который я назвал выше «модернизация человека». Суть этой модернизации заключается в становлении типа личности, ориентированной на индивидуальную самостоятельность, на свободное самоопределение в социальном пространстве, на ответственность за собственную судьбу. В отечественной литературе, в том числе и в работах автора данной книги, этот сдвиг нередко интерпретируется как освобождение от государственно-патерналистского синдрома. В основном это верно: именно государственно-патерналистская система, созданная партократическим режимом, довела до предела поведенческую несамостоятельность, пассивность личности, личную и социальную безынициативность людей, привела к развитию явлений социального иждивенчества и демотивации трудовой активности. Государственно-патерналистские установки и ожидания, как это видно и на примере наших респондентов, продолжают и в постсоветских условиях оказывать значительное влияние на экономическое и политическое сознание большинства населения, тормозят развитие рыночной экономики.
Было бы вместе с тем неверно сводить модернизацию человека только лишь к изменениям в сфере отношений между индивидом и государством. Во-первых, было бы грубым упрощением, своего рода сведением к абсурду ~ отказывать советскому человеку в какой бы то ни было индивидуальной самостоятельности, приписывать ему тотальную психологическую зависимость от государственной опеки. Бесспорно, в советском обществе существовала инфантильная психология, отношения с властью были основаны на принципе «вы наши отцы, мы ваши дети» (существуют они в определенных слоях населения и в постсоветское время). Однако наряду с ними были распространены индивидуальное и коллективное профессиональное творчество, индивидуалистическая жизненная стратегия, нацеленная на поиск оптимальной ниши в этатистской социальной системе.
Во-вторых, государственно-патерналистский синдром был лишь одной из форм проявления комплекса, гораздо более широкого и глубоко укорененного в архетипах национального менталитета. Это комплекс слабости человека, детерминированности его жизни внешними силами, будь то власть, природа, сословное неравенство или божественное предопределение («на все воля Божья»). Он выражался в убеждении, что невозможно рационально и организованно воздействовать на мир и собственную судьбу, в русском народном фатализме, в психологии «авось».
Модернизация человека ~ это освобождение не только от советских, но и от более традиционных стереотипов восприятия мира и поведенческих установок. В то же время для людей, испытывающих такое освобождение, да и для всего общественного сознания, более очевидна первая сторона происходящей с ними трансформации («...как-то совок из-за спины вытащил», ~ сказал о себе один из наших респондентов). В целом, в постсоветский период происходит одновременно и переход от боязливого, осторожного «адаптационного» индивидуализма к индивидуализму более смелому, раскованному, и становление принципиально новой для России мировоззренческой парадигмы отношений индивидуального человека с миром.
Как показали эмпирические исследования, широчайшие слои российского общества не воспринимают изменения, произошедшие в их жизни за годы реформ, как обретение какой-то новой свободы. Тем более важна фиксация довольно значительного меньшинства, убежденного, что оно эту свободу получило, весьма высоко ее оценивающего и строящего на ее основе свою жизненную практику.
Понятно, что такого рода практика, не зажатая в тиски «внутренних» и «внешних» табу, освобождает творческие потенции людей и направляет их в русло инновационной активности. Поэтому аккумуляция подобных практик ~ ступень на пути восхождения от модернизации человека к модернизации общества. Во всяком случае, если анализировать происходящие в России процессы в свете современных теорий социальных изменений, напрашивается вывод: из двух равно необходимых и взаимодействующих потенциалов модернизации ~ потенциала структурно-институционального и субъектного, «акторского» ~ наиболее реальным является наличие и развитие второго, «человеческого» потенциала.
Модернизацию человека было бы в корне неверно рассматривать как тотальную смену старого новым. Такой подход означал бы зеркальное копирование пропагандистского мифа о советском человеке как радикально новом антропологическом феномене, которому мешают приобрести окончательно завершенную, абсолютную форму лишь сохраняющиеся кое-где, кое у кого «пережитки капитализма». Мы не далеко уйдем от подобных клише, если будем рассматривать современное российское общество как совокупность людей, различающихся между собой лишь тем, в каких пропорциях в их сознании сочетаются либеральные ценности и «пережитки социализма».
В действительности, и в истории вообще, и в истории духовной, ментальной в частности, новое всегда строится с использованием старого. Насколько можно судить по нашим респондентам, даже самые «продвинутые» к либерализму люди среднего класса органически включают в свою новую ментальность «старые» ценности, отнюдь не обязательно имеющие «советское» происхождение. К их числу относятся, например, ценности профессионализма, интеллигентности, социальной солидарности, вполне способные сыграть конструктивную роль в обеспечении морально-этической составляющей постсоветской культуры.
Встречаем мы у них и ценности, менее или вовсе не конструктивные. Часто они сочетают, например, декларируемое уважение к социальной норме, к закону с некоторым занижением его роли по сравнению с принципами, формируемыми в процессе непосредственных межличностных отношений. Последнее связано с более глубоким, очевидно, архетипическим противопоставлением «я», малых «контактных» общностей, своего микросоциального мира, «мы» ~ «большому обществу», всему социетальному, институциональному, лишенному теплоты личных связей.
Эти наблюдения возвращают к вопросу, волновавшему одно время отечественных социологов: насколько российский протосредний класс походит или не походит на западный, способен ли он развиться в нечто подобное западному идеотипу. Этот вопрос сродни пресловутой проблеме выбора между западным и «собственным» путями развития российского общества. С одной стороны, очевидна неизбежность типологического сходства экономических, политических, правовых институтов и механизмов, социально-групповой структуры, ценностно-нормативной системы всех обществ, предпочитающих рынок экономическому этатизму, а демократию ~ авторитаритивному порядку. «Обойти» эту альтернативу, как показывает исторический опыт, невозможно. Если в понятие «своего пути» вкладывается именно такой смысл, этот путь ведет к «гибридному» (экономическому или политическому, или, как в ряде постсоветских государств, ~ к тому, и другому) устройству, в рамках которого преимущества обоих альтернативных вариантов взаимно уничтожают друг друга, что порождает нарастающий кризис и дисфункциональность всех институтов общества.
С другой стороны, набор типологических черт как рыночной экономики, так и политической демократии исчерпывается лишь теми их характеристиками, при отсутствии которых функционирование соответствующих систем, в конечном счете, оказывается невозможным. Все остальные институциональные, культурные и иные параметры экономической, общественно-политической, духовной жизни бесконечно варьируются от одной страны к другой, меняются в зависимости от исторических условий (в том числе и в рамках собственно западного мира).
В составе, сознании и поведении определенных слоев российского среднего или протосреднего класса угадываются определенные черты сходства с соответствующими «классами» западных обществ. Это и активная инновационная роль в экономике и культуре, и многообразие социально-профессиональных статусов и форм деятельности, это динамизм и мобильность, достижительная мотивация, трудолюбие, предприимчивость, свободолюбие. Это также психология «срединности», выражающаяся в уровне аспираций (не низком, но и не очень высоком), в чувстве социального достоинства и самодостаточности, в отторжении экстремально-агрессивных позиций и форм общественного и политического поведения (хотя последнее может, как отмечалось, сходить на нет под влиянием конкретной социально-исторической ситуации). Проявляется, хотя еще довольно слабо, в российском среднем классе и такая типологическая черта, как тенденция к формированию собственных «правил игры», субкультур, типов потребления и образов жизни. Если в России будет успешно развиваться рыночная экономика, все эти его черты получат дальнейшее развитие, а его удельный вес в обществе и влияние на общественные процессы будут нарастать и сближаться с западным уровнем.
Распознаваемы в российском среднем классе и национальные особенности. Одна из них ~ общественная и политическая пассивность, унаследованная от советской ментальности и консервируемая специфическими условиями адаптации людей среднего класса к кризисной постсоветской ситуации, общим состоянием социальных и политических институтов российского общества.
Для развития среднего класса эта его черта имеет деструктивное значение, чего нельзя сказать о некоторых его других социально-психологических особенностях. Я имею в виду, прежде всего, роль, которую играет в профессиональной мотивации ряда его слоев социально-этическое начало (этика «служения») и преобладание ~ в его понимании успеха ~ мотивов творческой самореализации и признания над мотивами статусно-карьерными и денежными.
Эти последние особенности никак не могут, на мой взгляд, свидетельствовать о какой-то «недоразвитости» или архаичности российского среднего класса по сравнению с западными «моделями». Стоит напомнить, что в 1960~1970-х годах в западной социологической литературе происходил бум эмпирических и концептуальных исследований, констатировавших переворот в ценностях младшего поколения среднего класса. Вместо нормативного материального и карьерного успеха (ценности общества потребления) приоритетом стала индивидуальная самореализация, т.е. произошла переориентация с идеалов материальных на «постматериальные ценности». Если масштабы этого сдвига достаточно спорны, то общий его вектор ~ пусть в иных формах, чем в эпоху «молодежной революции» 1960-х годов ~ был подтвержден дальнейшей эволюцией. (Живым символом этого вектора может служить интеллектуальный, этический и политический стиль Б. Клинтона в сопоставлении с рядом его предшественников а Белом доме.) В свете этих западных реалий многие представители российского протосреднего класса могут ~ с точки зрения своей мотивации ~ выглядеть более современными (постиндустриальными, постматериальными и т.п.), чем многие группы западных «зрелых» средних классов.
Несомненно, отмеченные социально-психологические черты части российских средних слоев обусловлены особенностями социального опыта определенного поколения ~ того, которое испытало переход от позднего тоталитаризма к постсоветскому обществу. Решающее значение имеет вопрос, насколько эти черты сохранятся или изменятся по мере смены генерационного состава соответствующих социальных групп. В рамках данного исследования ответить на этот вопрос невозможно: некоторые наши наиболее молодые респонденты кажутся по своим мотивам и ценностям весьма похожими на «старших» «братьев по классу», другие сильно от них отличаются. Впрочем, отличаются все ~ если не ценностными приоритетами, то представлениями о способах их реализации ~ жестко прагматической, рационально расчетливой жизненной стратегией. В общем, они проявляют большую готовность и способность к рациональному выбору в альтернативных ситуациях. Каким образом эта черта может сказаться на эволюции социальных практик среднего класса, сегодня сказать довольно трудно, но можно предполагать, что она проявится в весьма различных, возможно, противоположных поведенческих ориентациях.
В последней главе книги анализируются формы и эффект воздействия инновационной деятельности представителей среднего класса на различные уровни и сферы жизни российского общества. Я отдаю себе отчет в том, что эта часть исследования фрагментарна: для воссоздания более полной картины надо было бы использовать значительно более широкий эмпирический материал. Тем не менее, вряд ли вызовет сомнение вывод об ограниченности этого воздействия: из его сферы фактически выпадают институты власти, социетальный и политический уровни управления обществом. На этих уровнях «правит бал» бюрократия, олигархические группировки, узкий слой политической элиты.
Такая расстановка сил ущемляет интересы среднего класса и порождает его латентный конфликт с правящей бюрократией и связанным с ней олигархическим капиталом. Неорганизованность и раздробленность средних слоев, используемые ими индивидуализированные стратегии адаптации и профессиональной активности препятствуют перерастанию этого конфликта в конфликт открытый и социально конструктивный и способствуют тем самым консервации сложившейся социетальной ситуации и вместе с ней кризисного состояния российского общества. Состояния, именуемого «переходным», но в действительности оказывающимся переходом в никуда, мостом, доходящим до середины реки.
В принципе мыслимы два пути выхода из этого состояния. Первый путь в российских условиях мало реален. Он предполагает развитие связей высшей власти, заинтересованной в проведении реформ, с наиболее современной частью средних слоев, стимулирование их организации, социальной и политической активности, максимальный учет их интересов в экономической и социальной политике, формирование тем самым массовой социальной базы курса реформ. Второй, более перспективный путь предполагает развитие собственной инициативы средних слоев в деле защиты своих интересов, их самоорганизацию, вмешательство в большую политику, выдвижение ими собственной социальной и политической элиты, формирование ими общественных движений и партий, способных изменить соотношение сил в обществе.
Эти два пути не являются взаимоисключающими и альтернативными, они могут взаимно дополнить друг друга, и именно такая «встреча» модернизации сверху и модернизации снизу представляется оптимальным, наиболее эффективным вариантом, минимизирующим риски и потери, грозящие стране. Попытки же проводить лишь модернизацию сверху, с опорой только на бюрократию и силовые структуры, могут только еще дальше завести ее в тот тупик, в котором она оказалась к концу ХХ века.
Один из вопиющих парадоксов современной России состоит в разрыве между мощью ее интеллектуального, культурного, творческого потенциала, в целом соответствующего уровню ХХI века, и немощной архаичностью ее институтов, управленческих структур и элит, напоминающей традиционную страну «Ревизора» и «Города Глупова». Россия похожа на человека с превосходным мозгом, не способным однако, регулировать жизненные функции организма. Люди рождающегося среднего класса ~ возможно, одна из тех сил, которые смогут устранить этот разрыв, восстановить утраченную связь мысли и социально-исторического действия.
Литература
1.&9 Авраамова Е.М. Влияние социально-экономических факторов на формирование политического сознания // Российское общество: становление демократических ценностей? М., 1999.
2.&9 Авраамова Е.М. Появился ли в России средний класс? // Средний класс в современном российском обществе. М., 1999.
3.&9 Андреева В., Василенко Е., Раскутина Т. Об организации и некоторых результатах обследования социальных процессов в малом предпринимательстве // Вопросы статистики. 1997. № 6.
4.&9 Бакштановcкий В.И., Согомонов Ю.В. Городские профессионалы: ценности и правила игры среднего класса. Тюмень, 1999.
5.&9 Бакштановский В., Согомонов Ю. Этос среднего класса: нормативная модель и отечественные реалии. Тюмень, 2000.
6.&9 Батыгин Г.С. Дело жизни: биографические горизонты профессионалов // Городские профессионалы. Ценности и правила игры среднего класса. Тюмень, 1999.
7.&9 Бек У. Общество риска: На пути к другому модерну. М., 2000.
8.&9 Бойков В. Коллективное сознание чиновников // Государственная служба. 1999. № 1(3).
9.&9 Будон Р. Место беспорядка: критика теорий социального изменения. М., 1998.
10.&9 Бурдье П. Начала. М., 1994.
11.&9 ВЦИОМ. Общественное мнение. 1999. М., 2000.
12.&9 Гайдар Е. Государство и эволюция. М., 1995.
13.&9 Дилигенский Г. Дифференциация или фрагментация? (О политическом сознании в России) // Мировая экономика и международные отношения. 1999. № 10.
14.&9 Дилигенский Г.Г. «Запад» в российском общественном сознании // Общественные науки и современность. 2000. № 5.
15.&9 Дилигенский Г.Г. Массовое политическое сознание в условиях современного капитализма // Вопросы философии. 1971. № 9.
16.&9 Дилигенский Г.Г. Проблемы теории человеческих потребностей // Вопросы философии. 1976. № 9.
17.&9 Дилигенский Г.Г. Российский горожанин конца девяностых: Генезис постсоветского сознания. М., 1998.
18.&9 Дилигенский Г.Г. Социально-политическая психология. М., 1996.
19.&9 Дилигенский Г.Г. Становление гражданского общества: культурные и психологические проблемы // Гражданское общество в России: структуры и сознание. М., 1998.
20.&9 Дискин И.Е. Средний класс как «мигрант» в консервативном российском обществе // Средний класс в современном российском обществе. М., 1999.
21.&9 Донцов А.И., Емельянова Т.П. Концепция социальных представлений в современной французской психологии. М., 1987.
22.&9 Заславская Т.И. Социальная структура России: главные направления перемен // Куда идет Россия? Общее и особенное в современном развитии. М., 1997.
23.&9 Заславская Т.И. Стратификация современного российского общества // Экономические и социальные перемены. Мониторинг общественного мнения. 1996. № 1.
24.&9 Заславская Т.И. Трансформация российского общества как предмет мониторинга // Экономические и социальные перемены. Мониторинг общественного мнения. 1993. № 2.
25.&9 Заславская Т.И., Громова Р.Г. К вопросу о «среднем классе» в российском обществе // Мир России. 1998. № 4.
26.&9 Заславская Т.И., Рывкина Р.В. Социология экономической жизни: очерки теории. Новосибирск, 1991.
27.&9 Здравомыслов А.Г. Несколько замечаний по поводу дискуссии о среднем классе // Средний класс в современном российском обществе. М., 1999.
28.&9 Капустин Б.Г. Современность как предмет политической теории. М., 1998.
29.&9 Козер Л. Функции социального конфликта. М., 2000.
30.&9 Корель Л.В. Социология адаптаций. Новосибирск, 1997.
31.&9 Красильников В.А. и др. Модернизация и зарубежный опыт. М., 1994.
32.&9 Кустарев А. Начало русской революции: версия Макса Вебера // Вопросы философии. 1990. № 8.
33.&9 Лапина Н., Чирикова А. Региональные элиты в РФ: модели поведения и политические ориентации. М., 1999.
34.&9 Левада Ю. От мнений к пониманию: социологические очерки, 1993-2000. М., 2000.
35.&9 Левин И.Б. Индустриальные округа как альтернативный путь индустриализации // Мировая экономика и международные отношения. 1998. № 6.
36.&9Экономические и социальные перемены. Мониторинг общественного мнения. 1999. № 2.
37.&9Экономические и социальные перемены. Мониторинг общественного мнения. 2000. № 4.
38.&9 Московиси С. Машина, творящая богов. М., 1998.
39.&9 Мостовая И.В. Социальное расслоение: символический мир метаигры. М., 1996.
40.&9 Наумова Н.Ф. Переходный период: мировой опыт и наши проблемы // Коммунист. 1990. № 8.
41.&9 Независимая газета. НГ~Наука. 1999. № 1 (янв.).
42.&9 Пантин В.И. Средние слои в современной России: политическое поведение и ориентации. Автореф. дис. канд. полит. наук. М., 1995.
43.&9 Перегудов С.П. Западная социал-демократия на рубеже веков // Мировая экономика и международные отношения. 2000. № 6.
44.&9 Перегудов С.П., Лапина Н.Ю., Семененко И.С. Группы интересов и российское государство. М., 1999.
45.&9 Перспективы России. Критические факторы и возможные направления развития до 2010 года / Bundesinstitut fьr Ostwissenschaftliche und Interationale Studien. Kцln, 1999.
46.&9 Петухов В. Демократия в восприятии российского общества: Доклад на семинаре Фонда Карнеги. М., 2001.
47.&9 Пшеворский А. Демократия и рынок: Политические и экономические реформы в Восточной Европе и Латинской Америке. М., 1999.
48.&9 Радаев В.В. Стратификационный анализ постсоветской России: неовеберианский подход // Способы адаптации населения к новой социально-экономической ситуации в России. Вып. ХI. М., 1999.
49.&9 Радаев В.В. Формирование новых российских рынков: трансакционные издержки, формы контроля и деловая этика / Центр политических технологий. М., 1998.
50.&9 Радаев В.В., Шкаратан О.И. Социальная стратификация. М., 1996.
51.&9 Социальная психология классов. М., 1985.
52.&9 Средний класс в России: количественные и качественные оценки / Бюро экономического анализа. М., 2000.
53.&9 Средний класс в современном российском обществе. М., 1999.
54.&9 Средний класс в современном российском обществе. Ч. 2. Средний класс в постсоветской России: происхождение, особенности, динамика. М., 1999.
55.&9 Стариков Е.Н. Угрожает ли нам появление «среднего класса»? // Знамя. 1990. № 10.
56.&9 Тихонова Н.Е. Факторы социальной стратификации в условиях перехода к рыночной экономике. М., 1999.
57.&9 Третьяков В. Россия: последний прыжок в будущее // Независимая газета. 2000. 24 февраля.
58.&9 Турен А. Возвращение человека действующего: очерк социологии. М., 1998.
59.&9 Фонд «Общественное мнение». Динамика общественного мнения (политика). Бюллетень. Осень-зима 2000.
60.&9 Формирование среднего класса в России / Бюро экономического анализа. М., 2000.
61.&9 Формирование среднего класса в России: заключительный доклад / Бюро экономического анализа. М., 2000.
62.&9 Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб., 2000.
63.&9 Хахулина Л. Субъективный средний класс: доходы, материальное положение, ценностные ориентации // Экономические и социальные премены. Мониторинг общественного мнения. 1999. № 2.
64.&9 Холодковский К.Г. Некоторые вопросы развития массового политического сознания // Мировая экономика и международные отношения. 1979. № 6.
65.&9 Холодковский К.Г. О корнях идейно-политической дифференциации в российском обществе // Человек в переходном обществе. М., 1998.
66.&9 Чернышев А.Г. Психология региональной элиты: мировоззрение и идеологические стереотипы // Московский общественный научный фонд: Научные доклады. М., 1999.
67.&9 Шабанова М.А. Социологическая теория трансформации свободы в меняющемся обществе. Автореф. дис. д-ра социол. наук. Новосибирск, 2000.
68.&9 Штомпка П. Социология социальных изменений. М., 1996.
69.&9 Юревич А.В., Цапенко И.П. Нужны ли России ученые? М., 2001.
70.&9 Ядов В.А. Символические и примордиальные солидарности // Проблемы теоретической социологии. СПб., 1994.
71.&9 Archer M.S. Culture and Agency. Cambridge, 1988.
72.&9 Аrkes H.R., Garske J.P. Psychological Theories of Motivation. Monterey, 1977.
73.&9 Balzer H. Russia's Middle Classes // Post-Soviet Affairs. 1998. V. 14. No 2.
74.&9 Bell D. The Cultural Contradictions of Capitalism. New York, 1976.
75.&9 Bourdieu P. La distinction. Critique sociale du jugement. Paris, 1979.
76.&9 Brint S. In an Age of Experts: The Changing Role of Professionals in Politics and Public Life. Princeton, 1994.
77.&9 Class, Status and Power: Social Stratification in Comparаtive Perspective / Ed. by R. Bendix, S.M. Lipset. New York, 1966.
78.&9 Crompton R. Class and Stratification: An Introduction in Current Debates. Cambridge, 1998.
79.&9 Giddens A. Central Problems in Social Theory. London, 1979.
80.&9 Giddens A. Sociology. Cambridge, 1989.
81.&9 Giddens A. The Class Structure of the Advanced Society. London, 1973.
82.&9 Giddens A. The Constitution of Society. Cаmbridge, 1984.
83.&9 Levin K. Vorsatz, Wille und Bedьrfnis. Berlin, 1926.
84.&9 MacСlelland D. et al. The Achivement Motive. New York, 1953.
85.&9 Mouzelis N.P. Back to Sociological Theory: The Constructions of Social Order. New York, 1991.
86.&9 Philips A. Boiling Point. The Decline of Middle Class Prosperity. New York, 1993.
87.&9 Psychologie sociale. Paris, 1984.
88.&9 Runciman W.C. Relаtive Deprivation and Social Justice: A Study of Attitudes to Social Inequality in Twentieth-Century Britain. San Francisco, 1966.
89.&9 Splintered Classes: Politics and the Lower Middle Classes in Interwar Europe / Ed. by R. Koshar. New York, 1990.
90.&9 Sztompka P. Society in Action: The Theory of Social Becoming. Chicago, 1991.
|